ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
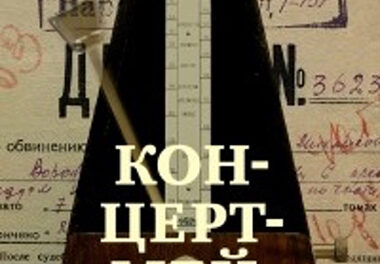

https://www.edu.severodvinsk.ru/
От редакции: Новый роман Максима ЗАМШЕВА “Концертмейстер” стал выдающимся событием современной русскоязычной литературы.
Предлагаем вниманию читателей “РА” этот роман.
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР

Максим Замшев родился в городе Москва. В 1995 году с отличием окончил музыкальное училище имени Гнесиных. Позднее учился в Литературном институте имени А.М. Горького, который окончил в 2001 году. Во время учебы в институте, в 1999 году, вышла первая книга его стихотворений «Ностальгия по настоящему».
В 2002 году Максим Замшев стал членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. С 2004 года являлся главным редактором журнала «Российский колокол». С 2007 по 2010 годы руководил проектом «Конгресс писателей русского зарубежья».
С августа 2017 года Максим Замшев главный редактор «Литературной газеты». Член Наблюдательного совета литературной премии «Лицей» для молодых писателей и поэтов. Является заместителем Председателя Правления Московской городской организации Союза писателей России.
Максим Замшев входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Максим Замшев много выступает как публицист и литературный критик. Автор десяти поэтических книг и четырех книг прозы. Имеет более 1000 публикаций в разных жанрах в России и за рубежом. Его стихи публиковались в «Литературной газете», «Независимой газете», в журналах «Москва», «Нева», «Урал» и в других тиражных изданиях. Много работает как переводчик с румынского и сербского языков.
Часть первая
1985
Всю ту зиму шептались о том, что Черненко уже мертв, а члены Политбюро скрывают его смерть, схлестнувшись в яростной схватке за власть. Когда же шестой, и самый краткосрочный, вождь СССР все-таки скончался, а сменил его седьмой, энергичный и по партийным меркам почти юный, Михаил Горбачев, советские граждане увлеклись политикой не на шутку, во всей ее заразительной и демагогически бессмысленной полноте. Увлекались с наивной горячностью, хотя о настоящих пружинах политической жизни мало кто имел хоть какое-нибудь представление. Все тонуло в домыслах, сплетнях, пересудах, абсурдных выводах, а мнящие себя проницательными интеллигенты глубокомысленно покачивали головами чаще обычного.
Невысокий, живенький, с пятном на лысине, с уютным, чуть простонародным говорком, новый Генеральный народу в целом глянулся. В его бесконечных речах с приторным фрикативным «г» всякий открывал что-то важное для себя. Военные, как и при любой смене власти, надеялись, что порядка станет больше, студенты размечтались, что из институтов прекратят забирать в армию, барышни предполагали, что по каким-то неведомым причинам будет преодолен дефицит разного модного импортного тряпья, трезвенники помышляли выйти наконец на первый план, учителя, врачи и творческие работники всерьез заговорили о свободе слова. И даже управдом композиторского дома на улице Огарева Глафира Петровна Толстикова, пересказывая в очереди за продовольственным заказом одну из речей Михаила Сергеевича, в той части, где она касалась капитального ремонта и бесчинства шабашных бригад, смотрелась необычайно воодушевленно. Слушали ее заинтересованно, сочувственно и немного пристыженно. Советские люди часто испытывали стыд по поводу и без повода.
Слава нового рулевого росла, как тесто для домашних пирожков, которые в то время домохозяйки регулярно пекли накануне государственных и семейных праздников.
После памятного апрельского пленума диковинная «гласность» разбередила слабые мозги граждан до полнейшего беспорядка, объявленная руководством партии перестройка приняла характер вполне мифологический, а слово «ускорение» в устах партийных боссов зазвучало с почти космической силой и загадочностью, словно они не советские начальники, а персонажи популярных в СССР романов Герберта Уэллса и Рэя Брэдбери.
1985 год подходил к концу, а народ преисполнялся уверенностью, что все только начинается.
Жилось явно веселей, общественная активность поощрялась пуще прежнего, а те, кто хранил равнодушие к переменам, составляли обидно малое меньшинство.
К такому меньшинству относился восьмидесятилетний композитор Лев Семенович Норштейн, автор девяти симфоний, двух балетов и множества произведений для фортепиано. Он был на редкость бодр и подвижен для своих лет, при любой возможности совершал длинные моционы, не предавался унынию, жадно и много читал, но на новости из внешнего мира реагировал крайне избирательно, отстраняясь раздраженно от всего, что считал несущественным и что обычно пыталась до него донести дочка, Светлана Львовна, по мужу Храповицкая, дама чрезвычайно политизированная, уже много лет безрезультатно боровшаяся с собственным курением и вопиющей некомпетентностью управдома Толстиковой. Живо интересовался Лев Семенович лишь делами своего младшего внука Дмитрия, в этом году заканчивавшего школу. Последние месяцы старика волновало, что Димка, похоже, не на шутку увлекся дочерью их соседа по подъезду, музыковеда Эдварда Динского. Динский, по мнению Норштейна, запятнал себя мерзкими статьями, проклинавшими композиторов-авангардистов, попавших в так называемый список Хренникова. Не сказать, что Лев Семенович так уж симпатизировал Денисову, Кнайфелю, Смирнову, Губайдулиной, Фирсовой и другим, испытавшим в 1979 году огонь критики руководителя Союза композиторов СССР за безудержную приверженность модернистским мантрам, просто он держал Динского за человека, опасно неискреннего, неизменно с аморальной ловкостью исполняющего чьи-то установки, и ничего больше. Жена его, преподававшая в консерватории теоретические дисциплины, жила и действовала под стать мужу.
Не хватало еще породниться с этой семейкой…
Норштейн часто вспоминал, как случайно, спустя несколько дней после зубодробительного выступления Тихона Николаевича Хренникова, услышал разговор заведующего кафедрой композиции Московской консерватории Альберта Лемана с Еленой Фирсовой. Леман назойливо выспрашивал у женщины, что у нее и ее соратников произошло с Тихоном Николаевичем, и рекомендовал прийти к первому секретарю Союза композиторов и поговорить… Дело было в подмосковном Доме творчества композиторов «Руза», в умиротворяющий послеобеденный час, на скамейке напротив столовой. Тогда он подумал: «Хорошие времена! При Сталине после такого разноса вряд ли его фигуранты поехали бы на летний отдых как ни в чем не бывало». Потом околомузыкальная общественность выработала версию: Хренников якобы обиделся, что модернисты без спроса отдали свои произведения для исполнения на Западе и на эти концерты собралось немало публики, тогда как на проходящих по официальной линии премьерах сочинений советских корифеев во главе с могущественным Тихоном никакого ажиотажа не наблюдалось, и что после всего этого лидер авангардистов Денисов объявил Союзу композиторов непримиримую войну.
Но Норштейн не особо в это верил.
Ни в мотивацию Хренникова, ни в войну Денисова. Он давно жил и не раз убеждался, что такие вещи так просто не объясняются.
Внук о своей симпатии к дочке Динского, разумеется, не распространялся. Но как-то, около месяца назад, во время своего очередного, ни в какую погоду, кроме проливного дождя, не отменяемого моциона, Лев Семенович увидел молодых людей, о чем-то увлеченно болтающих на скамейке под облетевшими липами, возле детской площадки напротив дома, и это его насторожило — больно загадочный у них был вид. Они окликнули его. Он подошел, поучаствовал в необязательном разговоре о своем самочувствии и о том, поедет ли он, как обычно, в январе в Рузу. Сияющие глаза внука не позволяли ошибиться в том, кого тот выбрал объектом первой серьезной любви. Он и раньше замечал этот беспричинный горячечный блеск и радовался тому, что мальчик взрослеет и обретает чувственность. Но когда прояснилось, по кому блестят его карие глаза, старый Норштейн огорчился. Лучше бы он влюбился в какую-нибудь одноклассницу!
Аглая всегда выделялась среди сверстниц, и не только… Нет, она не блистала красотой, но нечто такое присутствовало в ее ямочках на щеках, в прямых русых волосах, в изящной повадке, в улыбке с мягким прищуром, что заставляло пристальней всматриваться в нее всем, кто с ней сталкивался. В детстве она часто заговаривала со взрослыми на серьезные темы, чем и поражала, и смешила старших. «Какой она выросла? А вдруг девица так же цинична, как ее папаша? — терзался Лев Семенович. — Тогда Димка обречен страдать. Наверняка у нее полно ухажеров. Вряд ли она относится к мальчишке серьезно. Так, баловство».
Норштейны жили в доме Союза композиторов, на улице Огарева, 13. Дом был построен в 50-е и теперь выглядел памятником монументального строительства той поры. Его длинное многоподъездное тело врезалось в улицу Огарева под прямым углом. Тут же находились и Дом композиторов, и Союз композиторов, и нотная библиотека. Целый комплекс. Музыкальный город в городе. Казалось бы, лучше не придумаешь. Существование рядом с единомышленниками всяко лучше, чем житье среди другой, менее подходящей публики. Но Норштейн с недавнего времени относился крайне прохладно к своим коллегам по цеху, и соседство с ними не добавляло ему положительных эмоций. Чем так провинились советские композиторы перед Львом Норштейном? В общем-то ничем. Просто после смерти Шостаковича Норштейн начал глобально разочаровываться в композиторской профессии. Его преследовала мысль, что бесконечное обновление музыкального языка окончательно исчерпано. После великих Прокофьева и Шостаковича никому больше не удастся создать ничего такого, что не вызвало бы у обычных слушателей отторжения и непонимания. Все поиски уже давно свелись к музыкально-смысловой неразберихе и обречены на почти немедленное забвение. Скоро серьезная музыка будет доставлять удовольствие лишь профессионалам, превратится в череду тембровых и формальных фокусов, в брызги авторского эго. А от всего огромного числа советских композиторов, безмерно тщеславных, амбициозных и гордых, в истории музыки почти никого не останется. «А как же Свиридов?» — спросил он себя. Исключение, потонувшее в странных философских омутах, невероятный талант, ни с того ни с сего возомнивший себя тем, кто решает, что для русской музыки хорошо, а что плохо. Поначалу он пугался таких своих рассуждений, но заставить себя остановиться и забыть этот морок не получалось. Чем чаще он пытался опровергнуть сам себя, тем больше находилось примеров, подтверждающих его горчайшую правоту. Увы… Теперь его охватывало жалостливое презрение к себе и к коллегам, тщетно пытавшимся чего-то достичь, но не достигших. Нельзя быть не гением. Когда в мире столько гениальной музыки, писать не гениально недопустимо. И зачем нужен этот хорошо оплачиваемый, поднятый до социальных небес отряд советских композиторов?
Сознавал ли сам Норштейн, что его разочарование изрядно подпитывало произошедшее с Александром Лапшиным?
Тот, кто мог стать первым в русской музыке, затерян в глубине своей нелепой судьбы и не собирается из нее выбираться.
И уже не выберется.
С Лапшиным Норштейна в конце тридцатых познакомил Николай Яковлевич Мясковский, в классе которого тот учился на несколько лет позже, чем сам Лев Семенович. После окончания консерватории Норштейн сохранил со своим учителем близкие творческие отношения, и Николай Яковлевич не возражал против того, что его бывший ученик частенько заходит к нему и наблюдает, как он занимается с новыми подопечными. Лапшина Норштейн сразу выделил из других студентов-композиторов. Даже внешне он отличался. Интеллигентный, собранный, тонкий. Ни грамма бравады. Да и работы его обращали на себя внимание особой органичностью, стремлением индивидуализировать каждую фразу. Запомнил Лев Семенович хорошо тот день, когда Шура показывал учителю свою дипломную работу, вокально-симфоническую поэму «Цветы зла» на стихи Бодлера. Звучало ошеломляюще свежо и талантливо. Норштейн ликовал, но Мясковский хмурился, будто предчувствуя катастрофическую драму, ожидавшую Лапшина в будущем. То, что Шуриньку лишили консерваторского диплома из-за этой поэмы, сочтя ее упаднической, — еще полбеды, потом судьба, сменив гнев на милость, сделала его в 1941 году членом Союза композиторов, оставила живым в ополчении, куда он записался сразу после начала войны, и дала возможность с 1945 по 1948 год преподавать в Московской консерватории. И даже то, что его в разгар борьбы с космополитизмом выгнали с работы, обрекая его и его семью на полуголодное существование от одного случайного заработка до другого, можно было стерпеть — все же не арестовали и не убили. Но после реабилитации и возвращения в Москву в 1956 году племянницы Милицы Нейгауз Веры Прозоровой, сообщившей всему музыкальному сообществу, что Александр Лапшин донес на нее в органы, жизнь Лапшина превратилась в форменный ад. Тогда вернувшимся из ГУЛАГа верили безоговорочно. А среди друзей Прозоровой были Рихтер, Нейгауз, Фальк, Пастернак. Лапшина отвергли, его прокляли, с ним демонстративно не здоровались, не хотели учить его произведений. Возможность дать ему шанс объясниться даже не обсуждалась. После смерти тиранов пострадавшие от них обретают тираническую беспощадность по отношению к тем, кого полагают виновными в своих бедах. В 70-е, до отъезда в Израиль, только Рудольф Баршай осмеливался исполнять музыку Лапшина после десятилетий забвения. Лев Семенович посетил один такой концерт. Сочинения были по-своему великолепны, оригинально продолжали Малера, при этом звучали удивительно по-русски чисто и трогательно. Но клеймо предателя все же нарушило нечто в лапшинском идеально гармоничном внутреннем строе, ноты будто чем-то перебаливали и не могли никак преодолеть нарастающую хворь.
Норштейн огорчился.
Как же жаль Шуриньку!
Когда он окликнул Александра Лазаревича, выходящего из служебного входа Большого зала консерватории, тот не обернулся. Может быть, не услышал. А может, сделал вид.
Верил ли Норштейн в то, что Лапшин энкавэдэшный стукач? Прозорова приводила серьезное доказательство: следователи НКВД при допросах продемонстрировали знание того, что она рассказывала только Лапшину. Александр Лазаревич никогда не пытался публично оправдаться. Многие полагали, что этим он все признает.
Если того единственного, кто подавал такие надежды, кто мог дать русской — советской музыке шанс, постигла такая участь, к чему вся эта сочинительская дребедень, фестивали, заседания, прослушивания? Если гений и злодейство совместимы — искусство обречено. И гении обречены. Все это копилось в Норштейне долго, неосознанно, он сопротивлялся этому всеми силами, но в итоге решил оставить сочинение музыки.
Иногда он уже подходил к телефону, чтобы набрать номер Лапшина. Но всякий раз откладывал это на потом.
Забвение окутывало Александра Лазаревича, и Норштейн, уверенный в глубине души, что Лапшин этого забвения не заслуживает, все же ничего не предпринимал, чтобы помочь старому приятелю выбраться из той трясины, куда его настойчиво загоняло мнение тех, с кем безоговорочно соглашались.
* * *
Ночью по Москве кружила пурга, забираясь во дворы, в домовые ниши и углы, дразня немигающие фонари и отсыревшие афиши, проверяя на прочность кривые провода и печально вытянутые антенны, мелко стуча в молчаливые двери и заклеенные окна, заставляя случайных ночных прохожих пониже опускать головы. Это было похоже на то, как будто оркестр из снежинок на время лишился дирижера и пребывал в разрушительном хаосе, потеряв и форму, и содержание. Ветер, как охрипший бас, силился взять ноту, но все время срывался и от отчаяния хватался за стволы и ветви деревьев, яростно раскачивая их туда-сюда.
Тревожно подрагивали стекла в большой квартире на седьмом этаже в композиторском доме на улице Огарева. Только под утро природа унялась, и снег пошел крупно и ровно, почти вертикально.
Лев Семенович, против обыкновения, спал неважно. Сон сваливался на него какими-то тяжелыми, удушливыми клочками, а мягко обнял только под утро. Приснилась покойная супруга Машенька, которая не являлась уже несколько лет. Во сне она что-то тихо пела высоким, почти колоратурным, сопрано, звуки лились легко и свободно. Узнавался романс Власова «Бахчисарайский фонтан», который Маша при жизни боготворила и, слушая его, всякий раз не удерживалась от слез. Дальше сон обрел нежданную упругость. Стал таким, что старый Норштейн проснулся в давно забытом беспокойстве, которое, правда, быстро сошло на нет, но приятное тепло внутри какое-то время еще оставалось.
Лев Семенович разглядывал падающие снежинки. Он не разрешал никому зашторивать окна у себя в комнате. Ему еще необходим был этот мир постоянно, даже в крошечном стеклянном прямоугольнике окна. В голове навязчиво проигрывалась прелюдия Дебюсси «Шаги на снегу». Он почему-то всегда вспоминал ее во время снегопада и всякий раз удивлялся, как француз написал такую томительно русскую по ощущениям вещь. Хотя, наверное, удивляться тут нечему. Влияние Римского-Корсакова и Мусоргского на импрессионистов известно каждому музыканту. Но все дело здесь не во влиянии, а в снеге.
Снег никогда не остается незамеченным.
Похоже, дочь и внук еще спали. Лев Семенович поднялся с постели, осторожно, стараясь не шуметь, прошел по коридору, пахнущему книжной и нотной пылью, тщательно умылся в ванной прохладной водой и так же тихо вернулся в комнату.
Он уже очень много лет не позволял себе отказываться от утренних приседаний, как бы себя ни чувствовал. Восемьдесят повторений! Надо согнуть и разогнуть колени столько раз, сколько тебе лет. Светлана почти каждый день как заведенная твердила, что это опасная, непозволительная для его возраста глупость, что рано или поздно это кончится плохо, но Лев Семенович наотрез отказывался менять что-либо в своем распорядке.
После приседаний организм словно заводился, чтобы ровно и надежно доехать до вечера, а потом снова спрятаться в сны и там набраться сил для следующего дня.
Норштейн гордился тем, что выглядит максимум лет на шестьдесят пять и никого в своем возрасте не стесняет.
За окном неохотно светлело. Рассвет подбирался к субботнему городу, чтобы установить свой неброский дневной порядок часов до пяти вечера.
О смерти Норштейн не думал, не подпускал ее к себе, — издалека намного легче уверить себя в ее несерьезности. За долгую и ухабистую жизнь он пришел к выводу, что люди, боящиеся собственной смерти, как правило, ни во что не ставят жизнь других. И поэтому страх того, что тебя когда-то не будет, представлялся ему постыдным и недостойным нормального человека.
Боязнь умереть — непростительный эгоизм.
Глядя на неторопливые снежинки, он прислушивался к слабым звукам, доносившимся из комнаты Светланы. Дочка проснулась. Вот длинно скрипнула дверь гардероба. Значит, она собирается одеваться. Всю свою одежду, и домашнюю, и уличную, дочь всегда аккуратно вешала в шкаф. Не терпела, когда что-то висело на стульях, а тем более валялось на диванах или, не дай бог, на полу. Просто сходила с ума от этого. Это у нее от матери, считал Норштейн. Та тоже была помешана на порядке и чистоте.
Между тем Арсений, его старший внук, уже почти два года не приезжал в Москву, а последние разы, когда он пытался ему дозвониться в Ленинград, трубку никто не взял. Опять на гастролях? Или просто так совпало, что его нет дома? Или все-таки их общение, как все запретное, истончилось до предела и вот-вот оборвется? Нельзя в это верить. Так не будет. Не может быть так.
Он почти смирился с тем, что два его внука растут порознь и не видятся. Он уже перестал придумывать, как все это распутать. Но он не терял надежды на то, что когда-нибудь все изменится и встанет на свои места.
Светлана вошла в комнату. Убедившись, что отец не спит, сказала ему «доброе утро!» и удалилась на кухню готовить завтрак.
Вчера в магазине «Диета» на Кутузовском проспекте выдали очередной продуктовый заказ от Союза композиторов, и потому утром старик и его дочь пили индийский растворимый кофе и ели бутерброды со свежим российским сыром и финским сервелатом. В силу продовольственного дефицита члены творческих союзов, как и многие другие работающие москвичи, были прикреплены к разным магазинам, где раз в неделю могли скромно отовариться, а по праздникам и вовсе шикарно — двумя банками икры, красной и черной, дефицитной осетриной или горбушей, крабами и прочими редкостями.
В будни Норштейн всегда вставал рано, чтобы успеть позавтракать в компании с внуком. Тот придавал трапезе смысл, без конца рассказывая о своих нехитрых школьных делах, о своей вызревающей, как сочный плод, жизни, что-то спрашивал то у матери, то у деда и обязательно просил добавки. Дед знал, что Светлана пристально следит за тем, чтобы Дима не хлюпал и не чавкал, и внук старается этого не делать. Иногда ему хотелось подначить: «Хлюпай и чавкай сколько угодно»… Но в его почтенном возрасте такое озорство никак не позволительно.
Сегодня Димку к завтраку решили не будить. Выходной день. Пусть спит сколько спится.
Светлана Львовна, допивая кофе, настороженно посмотрела в окно, в котором с недвижной сахаристостью белели крыши окрестных домов, потом перевела взгляд на старика, словно призывая его в соучастники чего-то неотложного. Норштейн никак не реагировал на это, сосредоточенно намазывая столовым ножом из светло-серой матовой стали масло на хлеб.
Было отчетливо слышно, как тикает будильник.
На подоконнике с внешней стороны притулился голубь и, похоже, чувствовал себя в полной безопасности, иногда чуть поворачивая втянутую в туловище голову, а иногда замирая. В теплое время года Норштейн кормил на своем окне множество воробьев и голубей. Светлана Львовна ворчала, что от птиц одна антисанитария, но поделать что-либо с этой отцовской прихотью не могла. Пару раз, когда дочь особенно расходилась, Лев Семенович переходил на крик, обвиняя ее в черствости и возмутительном птицененавистничестве.
— Днем снег наверняка кончится, и его начнут сбрасывать. Эта дура Толстикова, естественно, не догадается вовремя поставить ограждения. Точно прибьет сегодня кого-нибудь. Пойдешь гулять — будь осторожен, папа. Когда же нас избавят от этой невежественной женщины! Говорят, на нее жалоб целая куча. Но в Союзе композиторов вашем ничего не хотят предпринимать. Ты не планируешь позвонить в Музфонд, Восканяну, или, может, Терентьев наконец вмешается? Сколько мы должны мучиться?
Лев Семенович давно убедился, что неутомимая борьба дочери с управдомом Толстиковой — это ее дань пресловутой «гражданской позиции», с годами окончательно пришедшей на смену увлечениям ее молодости и наводнившей сознание ядовитой скандальной мутью. Ее невозможно было убедить в том, что Глафира Толстикова, жизнерадостная, краснолицая, вероятно, вороватая и не вполне добросовестная тетка, и не могла быть другой. Трудно представить управдома, читающего под подушкой самиздат, а по вечерам декламирующего в дворницкой Северянина. Если такой управдом когда-нибудь появится, человеческое сообщество рухнет в пропасть, как отвалившийся от скалы кусок.
Норштейн глубоко и безнадежно вздохнул — видимо, перед тем, как в очередной раз начать объяснять дочери, что не намерен обращаться ни в Музфонд, ни в Союз композиторов по поводу управдомовских бесчинств, — но в этот момент в дверь позвонили. Позвонили так неожиданно и так настойчиво, что Лев Семенович вздрогнул и чуть было не пролил кофе. Светлана Львовна настороженно и недовольно нахмурилась. Обратилась к отцу:
— Ты ждешь кого-то?
Норштейн сжал губы и покачал головой.
Звонивший настойчиво и часто давил на кнопку, потом прекратил.
Светлана подошла к двери, строго спросила:
— Кто там?
— Это я, мама…
Глазка в их двери не было.
— Кто? — женщина отказывалась верить своим ушам.
— Арсений, — отозвался голос, совсем не изменившийся за эти годы.
Одна ее рука рванулась к замку, быстро провернула его, вторая потянула ручку на себя.
В дверном проеме, в черной, засыпанной снегом шапке-ушанке с опущенными «ушами» и в какого-то странного, не определяемого, как ей показалось, цвета дубленке, переминался с ноги на ногу ее непрощенный старший сын — Арсений Храповицкий.
С лестницы повеяло пристальным, колким холодом.
— Пустишь? — робко спросил он.
Ответа не последовало. Светлана Львовна как будто лишилась не только дара речи, но и способности двигаться. Только глаза не застыли. В них радость мешалась с удивлением и отчасти с ужасом. И немного с обидой. И немного со страхом.
Арсений перешагнул порог когда-то родного дома, как-то сбоку неловко обнял застывшую мать и сразу почти отошел от нее на шаг, будто обжегся. Потом снял шапку, некоторое время рассматривал ее, провел рукой по волосам.
Румянец на его щеках с детства смотрелся особенно красным, как у девиц на лубочных картинках.
И сейчас щеки его алели.
— Кто там? — крикнул Лев Семенович из комнаты.
— Это Арсений, — сказала Светлана Львовна так, будто в этом не было ничего необычного.
Раздалось торопливое шуршание тапочек о паркет. Лев Семенович выскочил в коридор, произнес не совсем уместное в данной ситуации «батюшки!» и кинулся обнимать внука. Обнимал долго, что было силы прижимал к себе, тыкался старческой щекой ему в волосы, похлопывал по плечам.
Младший брат Арсения Дима уже некоторое время как проснулся и прекрасно слышал, что говорили в коридоре. Неужели это не сон? И как теперь быть?
1948
Шура Лапшин со своей болью играл в прятки, и она всегда его находила. Вопрос был только в том, в каком месте она его настигнет и что с ним после этого сотворит. Сегодня боль, тягучая, всепоглощающая, поднимающаяся от живота к венам на шее, а потом обваливающаяся вниз, почти до самых пальцев ног, пришла почти сразу, как он вышел из консерватории на заснеженную и растекающуюся темноватыми переулками в разные московские стороны улицу Герцена. Лапшин не сомневался, что дело его «швах». Хотя «дело швах» сейчас говорить опасно: еще заподозрят, что немецкий шпион. Во время войны точно так бы и произошло.
Как с Нейгаузом, который, отказавшись от эвакуации, в 1941 году остался в Москве, рядом с умирающим от туберкулеза сыном, а его отправили по этапу за то, что он якобы ждал немцев.
Мастер Генрих.
Нет, сегодня он не поедет к себе. Надо идти к Людмиле, в Борисоглебский. Она сделает ему укол. У нее всегда есть морфий. Она как-то достает его из больницы, где работает. Вероятно, это очень рискованно. Она влюблена в него еще со школы, с той самой школы в Новосибирске, до которой теперь так далеко, как и до детства, и до покоя.
Но это сейчас не важно. Боль заслоняет все.
Лапшин оглянулся по сторонам: не мелькнет ли где-нибудь зеленый огонек такси, или не ползет ли вдалеке автобус, но ничего похожего не обнаружил. «Пойду пешком, — подумал молодой преподаватель консерватории композитор Александр Лапшин. — идти недалеко».
Он положил себе руку на живот, словно удерживая его на месте, и побрел к площади Никитских ворот…
«Завтра можно будет зайти к Льву Семеновичу, он живет в двух шагах от Люды, — размышлял Лапшин, чуть размахивая портфелем с нотами пятой симфонии Малера, которые брал сегодня на занятия, чтобы показать своим ученикам в классе музыкальной литературы. — У Норштейнов такое милое семейство. Жена, дочка».
Боль караулила каждый его шаг и колола с настойчивостью и ритмичностью старшины, заботящегося о том, чтобы никто не сбивался с ноги. Вряд ли жив тот старшина, что их, молодых ополченцев, учил уму-разуму летом 1941 года. Шура помнил его огромные усы, почти карикатурные, помнил его голос, скотски-бравурный, помнил, как он, сгорбившись, присев на бревно, курил. А вот как звали его, забыл.
Переходя Никитский бульвар, Шура едва не потерял равновесие и чуть не шлепнулся прямо на трамвайные рельсы. Еле успел! Трамвай громыхал не так уж и далеко. «Не хватало еще под колеса угодить», — подумал он, оглядываясь на два покачивающихся вагона, несущихся мимо него к Пушкинской площади. Потом невыносимая резь в желудке остановила его. И он застыл рядом с заиндевевшими деревьями, такой же одинокий и беспомощный, но значительно менее стойкий. Необъяснимый город не выказывал никакого сочувствия. Ему двадцать семь лет, а он почти инвалид. Проклятая язва. Хотя если бы не она, подстрелил бы его какой-нибудь фриц. А так комиссовали после недели военной службы. Повезло!
Скорей бы уже сделать укол. Хоть и ненадолго, но облегчение придет полное. И легкость, и сладость, и сила. Неужели ему до конца дней придется сидеть на морфии? Сколько еще Людочка сможет его добывать для него? Легкие словно забила какая-то клейкая масса, которая мешала вдыхать и без того густой и холодный воздух московского февраля.
На углу улицы Воровского и Борисоглебского переулка переминались два подозрительных субъекта в расстегнутых тулупах. Один из них развязной походкой подошел к Лапшину, спросил закурить, но, увидев искаженное лицо молодого композитора, убрался. Шура расслышал, как он объяснял дружку:
— Какой-то больной! Вдруг заразный? Сейчас заразы полно.
На лестнице в подъезде дома, где в многонаселенной коммуналке проживала его одноклассница Людочка Гудкова, Шура вконец обессилел. Боль вцепилась в него, как кот в воробья, и волокла куда-то еле живого.
Около звонка теснились таблички, сообщавшие, сколько раз кому из соседей звонить.
Гудковой — два раза.
Люда Гудкова не сказать что была влюблена в своего высокого, худощавого, в больших очках одноклассника Сашу Лапшина, скорее привязана к его теплому голосу, шуткам, наклону головы, узким губам. Никогда не представляла его как мужчину, возлюбленного, но в то же время предложи он ей руку и сердце, не раздумывала бы ни секунды. После школы Шуринька уехал поступать в Московскую консерваторию, и они долгое время не виделись, отправляя друг другу письма, сперва каждую неделю, а потом все реже. Во время войны, когда в городе было полно эвакуированных, он неожиданно вернулся, но возобновить прежнее душевное общение не получилось. Людочка днями и ночами дежурила в городской больнице, а Шура ухаживал за больными сестрой и отцом. Отец его умер в 1943 году. На Шуриньке на похоронах лица не было, он так корчился, что Люда испугалась, что он сам сейчас умрет.
Вскоре Шура снова перебрался в столицу. Переписка не возобновилась.
И Шуре неоткуда было узнать, что Люда летом 1944 года попросилась на фронт и до самой Победы прослужила медсестрой в медсанбате одной из частей 1-го Белорусского.
Когда в 1946-м ее перевели на работу в Москву, первым делом пришло в голову, что теперь Сашка снова близко. Однако почему-то она не стремилась найти его, хотя это было не так уж и сложно. Вероятно, надеялась, что он сам объявится или они встретятся случайно.
Однажды она отправилась в магазин «Консервы» в надежде отоварить карточки. Друг детства стоял на углу Медвежьего переулка и улицы Герцена, курил, улыбался и поглядывал на небо, словно ждал там каких-то немедленных изменений.
Люда увела его тогда к себе в Борисоглебский, напоила чаем, он рассказал ей все о себе, она ответила тем же. Услышав про тяжкую болезнь Лапшина и про то, что ему прописано только лечение морфием, она не испытала колебаний: ее долг помочь другу. С тех пор так повелось: когда ему становилось совсем невмоготу, он приходил к ней. И она делала ему укол морфия, который крала из больничных запасов. Почему-то ее сперва совершенно не страшило, что кража вскроется и ее накажут. Ведь она уносит из больницы ампулы с морфием для благого дела. За что ее наказывать? Но эта уверенность постепенно таяла. Морфий для Лапшина служил лишь временным облегчением, а недостача препарата в клинике все увеличивалась. Долго ли ей удастся оставаться безнаказанной? И оправдан ли риск?
Сегодня Люда, открыв дверь и увидев Лапшина, привычно заторопилась. Помогла ему раздеться, уложила на кушетку и помчалась на кухню, чтобы вскипятить шприцы. Шура расслышал, как Люда и соседка обсуждали, как здорово, что перед самым Новым годом отменили карточки и зимуется теперь не так тяжело, как в прошлом году.
«Да уж! Если бы карточки не отменили, я бы не выжил, — размышлял Лапшин. — Грубая пища меня бы доконала. Или бы выжил?» Боль превращала его в сомнамбулу. Все вокруг него двоилось, теряло четкость, делало сознание мутным и бессильным.
Услышав шаги Людочки, он чуть успокоился. Счастье близко. Бывшая одноклассница поставила укол в вену — так эффект быстрее. Села на край кушетки. Заглянула в его глаза, постепенно проясняющиеся.
— Саша! Надо что-то делать. Еще чуть-чуть — и ты станешь морфинистом, — сказала Люда с деловитой тревогой хорошей ученицы, которая всегда говорит то, что от нее ждут.
— А что можно сделать? — простонал Лапшин. — Я только вчера был в поликлинике. Врач не уверен в успехе операции. Твердит, что никто не даст гарантии. И другого варианта сейчас нет. Только лечение морфием.
— Ты меня, конечно, извини. Но тебе всего двадцать семь лет. Неужели твой врач не понимает, что морфий убьет тебя раньше язвы? — она сейчас наставляла Лапшина не как друга, а как пациента. — И не вылечит. Я, поверь, знаю, о чем говорю. Похоже, этот твой врач не в курсе, какова твоя реальная доза.
Шуринька отвернулся к стенке и несколько раз глубоко вздохнул.
Некоторое время слышно было только, как на общей кухне чьи-то руки переставляли посуду, включали и выключали кран.
— Чайник горячий. Чай будешь?
— Буду. — Лапшин c восторгом достигал состояния морфинистского покоя.
Лапшин любил пить чай вприкуску. Сначала класть в рот кусок сахара, а потом уже запивать его горячим чаем. И это не связано было с повальным в те годы стремлением экономить. Просто ему нравилось, как меняется вкус от очень сладкого к умеренному. Своеобразное вкусовое диминуэндо.
Всякий вечер, когда Шуринька оставался у Люды, между ними создавалось нечто исключительное, какая-то теплая искренность, из которой можно было при обоюдном желании вытянуть близость большую, чем дружба. Но этого не случалось. Как не случалось между ними никогда прежде. Сколько же можно? У Людочки от этого копилась досада и вот-вот грозила выплеснуть через край откровенным разговором. Может, сегодня что-то произойдет? — спрашивала саму себя девушка, вглядываясь в черты лица Шуриньки, легкие, как будто существующие не всерьез, но при этом неизменно страдальческие.
Два раза позвонили во входную дверь. Люда нахмурилась. Слишком уж по-хозяйски кто-то жал на кнопку. Стремительной тенью пронеслось: кража морфия вскрылась. Это за ней.
Приходящий в себя от боли Шуринька с неуместным задором бросил:
— Открой. Это, похоже, к тебе…
Вскоре в комнату, распространяя молодые морозные запахи, вошли четыре девушки. Все разного роста, но неуловимо похожие, словно они по жизни занимались чем-то одним или очень схожим. От удивления Лапшин даже привстал и, неуклюже кивая, поздоровался.
Кто это такие?
Самую высокую звали Вера. В ответ на приветствие Лапшина она лукаво прищурилась, словно признала в нем старого знакомого, который почему-то это знакомство отрицает. Ее русые волосы были уложены на прямой пробор, а лицо играло живой мягкостью, почти завораживающей, щеки отличались некоторой припухлостью, такой, что вызывает желание эти щеки слегка ущипнуть; подбородок выдавался вперед, но не столь сильно, чтобы нарушить пропорции лица.
Под стать ей выглядела та, что представилась Генриеттой. Она была немного ниже Веры. Маленький, чуть вздернутый носик не портил ее эффектную внешность: большие голубые глаза, светлые, слегка вьющиеся, легкие и тонкие волосы, нежный, чуть узковатый рот, ровный румянец на белейшей коже. Она всем своим видом, манерами словно предлагала мужчинам оценить ее и восхититься ею. И конечно же влюбиться в нее. На лапшинское «Здравствуйте!» она картинно поклонилась.
Вид третьей девушки рождал скорее чувства трогательные: худенькая, в очках, меньше всех по росту, да еще сутулящаяся, но с очень волевым лицом, никак не подходящим к детскости во всем другом облике. Темные волосы заплетены в два забавных хвостика. Она сказала Лапшину: «Приветствую вас», — сразу обозначая некоторую дистанцию.
Четвертую Лапшин узнал: это была Света Норштейн, дочка Льва Семеновича, его хорошего товарища, тоже композитора. Она, кажется, только в этом году окончила школу и поступила в педагогический институт. Но выглядела взрослее своих лет. В лице жила красивая, какая-то библейская строгость, в глазах — спокойная умудренность, чувство постоянной правоты и жажда эту правоту доказывать, но только тем, кто этого достоин. Лапшину она кивнула, улыбаясь, как старому знакомому, но спрашивать, как он здесь, в этой комнате, возник, не решилась.
Вера, расцеловав Людмилу, защебетала:
— Ты прости, мы были тут неподалеку и вот решили к тебе зайти наудачу. Вдруг ты не на дежурстве?
Лапшин не мог себе представить, что у Люды в Москве есть подруги, да еще и целых четыре.
1953
С Олегом Храповицким, будущим отцом Арсения и Дмитрия, Света Норштейн познакомилась в день, когда хоронили Сталина.
Москва уже четыре дня была охвачена скорбным безумием, которое девушка, разумеется, разделяла, но почему-то горевать слишком долго не могла. Папа, как она сразу поняла, хоть и не показывал виду, значительно больше переживал из-за смерти Сергея Прокофьева, своего старшего музыкального собрата, чья прихотливая судьба поставила точку в его великой жизни в один день с вождем. О кончине Сергея Сергеевича ему сообщил зашедший к Норштейнам на чай друг отца, композитор Николай Пейко. Лев Семенович помрачнел. Долго тер глаза. Потом они что-то обсуждали вполголоса. Звучала фамилия Вайнберг. Света слышала от родителей, что известный советский музыкант Моисей Самуилович Вайнберг арестован чуть меньше месяца назад и его друзья, среди которых Шостакович, Пейко, Норштейн и многие другие, делают все для его освобождения. В тот же вечер у Норштейнов гостил композитор Лапшин. Очень приятный и очень несчастный молодой человек, пять лет назад изгнанный из консерватории по причине борьбы с космополитизмом. Последнее время Света реже его видела: только когда он заходил к отцу. А раньше, несколько лет назад, они часто оказывались в одной веселой компании, собиравшейся у Людочки Гудковой, жившей в доме напротив. То была выдающаяся компания. И Света хорошо себя в ней чувствовала, хотя и была много младше всех ее участников и участниц. Правда, сама Гудкова ей не очень нравилась. Но она готова была терпеть ее ради того, чтобы регулярно погружаться в необычный дух этих странных для своего времени посиделок, где как будто не действовали законы внешнего мира и все чувствовали себя легко и раскрепощенно. В конце концов с Людмилой они все-таки крепко поссорились. Но это случилось после того, как компания фактически распалась.
Отец и Лапшин в тот мартовский вечер выпили по рюмке, в память Прокофьева, говорили при этом тихо, почти шепотом, потом словно по команде очень громко помянули Сталина.
Занятия в средней женской школе, где Светлана первый год после института преподавала английский, естественно, в тот скорбный день, как и в предыдущие четыре, отменили. Вчера и позавчера она с черной повязкой на рукаве участвовала в траурных школьных митингах, с одной стороны, ужасно напыщенных, с другой — холодно-деловитых. Ее поразило, что один из учителей, фронтовик, пришедший на митинг зачем-то в парадном кителе, со всего маху грохнулся в обморок, когда стоял в скорбном карауле около портрета генералиссимуса, где тот из-под усов добродушно и беззаботно улыбался.
Сегодня отец и мать уговаривали ее никуда не выходить из дома. Но она все же вытребовала у них право немного прогуляться. Отец в итоге махнул рукой и буркнул:
— Иди! Только в толпу не лезь. Не проявляй самостоятельности где не надо. Без тебя разберутся.
— Я и не собиралась, — обрадовалась Света. — Зачем мне в толпу?
Сероватый, однотонно-унылый, ничем не примечательный, до раздражения заурядный денек начала марта еще не обнаруживал признаков весны, но в воздухе уже поселилось что-то легкое, необъяснимое, что скоро переломит погоду и заставит природу окончательно очнуться, зашелестеть флейтами теплых ветров, погрузиться в негромкую настойчивость птичьих распевов и терпковатых свежих, всякий раз новых ароматов.
Норштейны жили с конца тридцатых годов в коммуналке в Борисоглебском переулке, в унылом на вид доме из зеленого кирпича, находившемся чуть в глубине от проезжей части, как сказали бы много позже, на второй линии. И хоть в то время, когда многие москвичи еще не выбрались из бараков и общежитий, и такую жизнь почитали за счастье, отец семейства очень страдал от этого, так как работать за инструментом в перенаселенной, шумной квартире, где бытие каждого протекает на виду у остальных, а шумные безобразные ссоры чередуются с безудержным и чаще всего переходящим в новые безобразия весельем, было невозможно. Если только соседям казалось, что Семеныч играет слишком громко, они начинали яростно колотить в стену. А казалось это им почти всегда. Тем более что никто из них не относился к поклонникам академической музыки.
Когда в 1946 году на улице Воровского завершили строительство здания музыкального института, где поначалу разместили не только институт, но и школу с училищем, Лев Семенович с разрешения Елены Фабиановны Гнесиной, руководившей новым вузом, по вечерам ходил в свободные классы, где мог заниматься столько, сколько хотел. Это спасало. Здесь никто не начнет барабанить в дверь или в стену и орать: «Семеныч, кончай!»
В начале пятидесятых морок войны все же начал рассеиваться. Тьма смерти постепенно отступала перед ровным светом житейских забот.
Лучше пошли дела и у Льва Семеновича. Его исполняли все больше, о нем писали музыковеды, руководство Союза композиторов относилось к нему благосклонно. После премьеры в Большом зале консерватории его Пятой симфонии публика почти десять минут хлопала стоя, вызывая на сцену автора.
У семьи появился некоторый достаток. Вот только проблема с жильем не решалась. Норштейны так и ютились в коммуналке в Борисоглебском, втроем в одной комнате. По статусу Льву Семеновичу давно уже пора было переехать. Но этого не происходило.
Елена Фабиановна Гнесина несколько раз уговаривала его начать преподавать в институте композицию. Домашние умоляли согласиться. Ведь работа под крылом Гнесиной, к которой, как известно, хорошо относились в Политбюро, — это верный путь в новую, отдельную квартиру. Пока там в Союзе композиторов расщедрятся! А к Гнесиной, говорят, сам Сталин прислушивался. Не говоря об остальных партийных бонзах. Но Лев Семенович отказывался, мотивируя это тем, что не чувствует в себе педагогических талантов и только из-за квартиры не будет уродоваться сам и уродовать других, занимаясь тем, чем заниматься не должен, не хочет и даже не имеет права.
Между тем на улице Огарева вроде бы планировалось построить кооперативный композиторский дом. Как будто и Норштейнам светило оказаться среди участников кооператива.
Лев Семенович не очень в это верил: в последний момент всегда что-то может поменяться, да и строительство продолжится несколько лет. Его жена тем не менее копила деньги на сберкнижке. По ее расчетам, к тому моменту, когда начнут распределять квартиры, сумма приблизится к нужной.
Света, несмотря на неудобства и тесноту, никогда не тяготилась дома. Всегда находила чем заняться или о чем поболтать с отцом или с матерью. Но в то утро 9 марта 1953 года Свете стало в их, по меткому определению ее матери, Марии Владимировны, «вороньей слободке» невмоготу. Из каждой комнаты из радиоприемников звучала трансляция с траурной церемонии и периодически кто-то всхлипывал или скулил.
Два года назад из их коммуналки увели мужа соседки, военного прокурора Сергея Сергеевича Хорошко, близорукого, низкорослого человека с уютной, какой-то рафинадной фамилией. Свете нравилась эта семья, а к Насте Хорошко, черноглазой и смешливой дочке прокурора, относилась как к младшей сестренке. Мать Насти служила в цирке на Цветном бульваре администратором и иногда просила старшеклассницу Свету Норштейн забрать из детского садика Настю и привести ее в цирк, чтобы малышка не оставалась без присмотра. Однажды Настя накормила свою «большую» подругу вкуснейшими сочными грушами. Дело было так. В цирке работал униформист Макуев, очень симпатизировавший Елене Петровне Хорошко. Напротив цирка, в середине Цветного бульвара, находился рынок, где за немалые деньги продавали фрукты, овощи, мясо, колбасы. Купить все это мало кто из москвичей мог себе позволить — большинство горожан довольствовались витающими вокруг прилавков запахами. И вот Макуев, чтобы побаловать дочку Елены Петровны, изобрел следующее нехитрое приспособление — доску со вбитым в нее гвоздем. Вооруженный такой доской, он подкрадывался к лоткам с задней стороны, просовывал ее через отверстие в заборе, и пока торговец рекламировал прохожим свой товар, у него за спиной этот самый товар уменьшался в количестве. Макуев накалывал груши на гвоздь, вытаскивал их и дарил сияющей от восторга Насте. Один раз в таком налете на рынок участвовала и Света Норштейн. Ей было немного стыдно, но уж больно вкусными оказались груши. Девочки договорились держать все это в строжайшей тайне.
После ареста Сергея Сергеевича два дня в комнате Хорошко орудовали люди в форменных кителях, фуражках с синим верхом и в брюках с такими же синими лампасами. Они молча и методично перерывали все вверх дном, читали все письма и бумаги, даже подняли дощатый пол. Потом, спустя неделю, по «вороньей слободке» пошел слух, что Хорошко разоблачен как английский шпион. Лев Семенович после этого происшествия несколько дней молча, не закусывая, хлестал водку, которую покупал в магазине на углу Борисоглебского и Молчановки, и не разговаривал ни с женой, ни с дочерью. Засыпал, просыпался и снова плелся в продуктовый. Мария Владимировна тогда сказала Свете:
— Не трогай отца. Он справится.
Супругу Сергея Сергеевича сразу же после ареста мужа уволили с работы, поскольку Госцирк считался режимным учреждением — цирковые представления нередко посещали Буденный и сын вождя, Василий Сталин. Полгода Елену Петровну никуда не брали, пока Лев Семенович не попросил директора Московского музфонда Крюкова пристроить ее на самую низшую должность в отделе кадров. Видимо, к Музфонду советская власть относилась не так серьезно, как к цирку. Пока Елена Петровна мыкалась, Норштейны давали несчастным деньги, всячески помогали, чего не скажешь о других соседях, косящихся в сторону «шпионских родственников» с явным неодобрением.
Из комнаты Елены Петровны плач по Сталину доносился громче всего.
В тот год, когда увели Хорошко, пропала и Вера Прозорова, участница их посиделок у Гудковой, всеобщая любимица, гордячка, красавица. Вскоре выяснилось, что она арестована и ее обвиняют в измене Родине. В то время такие сообщения мало кто пытался анализировать. Сам интерес к чему-то подобному часто служил поводом для репрессий. Тогда Света невольно подслушала, как зашедший к Норштейну Лапшин жаловался отцу, что его сестру и мать вызвали в МГБ по делу Прозоровой и что они после этого визита совершенно убиты. Света тогда дико испугалась: ведь ничего не мешало органам и ее допросить как знакомую Прозоровой! И что тогда? Но вскоре страх отпустил. О Прозоровой она больше ничего не слышала, и ее никто о ней не спрашивал.
* * *
Светлана спустилась по пахнущей мокрыми тряпками лестнице и очутилась во дворе, где прижимались один к другому разной высоты сарайчики, в которых жители дома хранили скарб, а летом порой и спали, спасаясь от духоты. Несколько шагов — и она в пустынном Борисоглебском. Немного поразмышляв над тем, куда все же податься, она двинулась влево, туда, где переулок прекращала идущая перпендикулярно улица имени Воровского. Вскоре показалось безуспешно пытающееся спрятаться за голыми липами четырехэтажное, построенное недавно, но с явным намеком на архитектурную старину желтое с белыми выступающими полуколоннами здание музыкального института. Из его широких окон в тот день непривычно не вылетало никаких звуков. Детище Гнесиных притихло, как и вся ошарашенная известием о смерти Сталина страна.
Свету тяготило то, как она одета, но выбора особо не было. До СССР по понятным причинам не докатился модный переворот, совершенный Кристианом Диором в 1948 году, и советские женщины в большинстве своем до середины пятидесятых носили весьма скромные и очень похожие друг на друга наряды. Строгая юбка и плечистый пиджак серого цвета совсем не шли Свете, а тяжеловатое длинное пальто и подавно. Туфли тоже выглядели не ахти как. Однако остальные имеющиеся у нее в гардеробе вещи раздражали еще больше.
В Борисоглебский переулок Норштейны переехали в 1936 году, когда Светлане исполнилось шесть лет. До этого они жили в Замоскворечье, у бабушки по материнской линии, урожденной Елизаветы Алексеевны Минаевой. Дом стоял во втором Голутвинском переулке, напротив закрытого советской властью храма Николая Чудотворца. Всем приходилось ютиться в одной комнате. Кроме Норштейнов, бабушки, на этой жилплощади проживала еще и мамина сестра, Нина Владимировна, врач-психиатр, обладавшая характером, мягко говоря, деспотичным. Все это превращало совместное существование в ад, и первые впечатления девочки были связаны с постоянными ссорами, криками и руганью. Интеллигенты иногда, как известно, ругаются яростней тех, кто к интеллигенции себя не причисляет. Переезд в комнату в Борисоглебском, полученную Марией Владимировной от Наркомпроса, где она работала в отделе театров, воспринимался семьей как счастливое спасение. Хоть и тесновато, но все же лучше, чем было.
Переулок с его красивыми и породистыми старыми домами сразу полюбился Светлане. Здесь она взрослела, училась понимать мир и принимать его таким, какой он есть. Научилась ли?
Света Норштейн первый раз влюбилась еще до войны, когда ей было десять лет. Детское сердце остановило свой выбор на пятнадцатилетнем соседе по дому, сыне уборщицы из столовой Верховного суда Алешке Красавине. Он поражал детско-девичье воображение не только высоким ростом и плечистой, не по годам рано сформировавшейся мужской фигурой, но и поразительным умением отбивать мячи из ворот во время дворовых футбольных баталий, которыми после выхода в 1936 году фильма «Вратарь» на долгие годы буквально заболела вся Москва. Однажды Света, наблюдавшая за забавами старших, исхитрилась ухватить мяч и убежать с ним в самый дальний угол двора. Она мечтала, чтобы Леша подошел к ней и сам попросил вернуть, но к «композиторской дочке» подскочил совсем другой парень, противнющий Борька из соседнего дома, и нагло выхватил у нее кожаную добычу. Света посчитала это чуть ли не изменой со стороны Лешки и жутко оскорбилась.
И Борьку, и Лешку, как и многих других их ровесников, война не вернула обратно, в арбатские дворы. Оба пропали без вести.
В 1941 году ей исполнилось одиннадцать. 22 июня вокруг нее все изменилось. Взрослые в суровом единении все, как один, походили на солдат огромной армии, состоявшей из военных и штатских, мужчин и женщин, юношей и девушек. В июле Москву начали бомбить. Вся суть жизни тогда свелась к звуку сирены, извещающей о том, что надо бежать в бомбоубежище. Папа и мама вместе со всеми жителями дома дежурили на крыше и сбрасывали зажигательные бомбы. В августе на улице Герцена, возле Никитских ворот, зиял огромной разлом, страшивший своей безысходной, как и сама война, глубиной.
Уезжая из Москвы в эвакуацию в Томск, Норштейны верили, что скоро вернутся. Не может Красная армия не победить фашистов! Так оно и случилось, только несколько позже, чем ожидалось.
В Томске, где папа переболел тифом и чуть не скончался, Свете жилось конечно же не сладко. Девочка училась терпеть и превозмогать, глядя на то, как стоически переносят все тяготы родители. Она чуть не плакала, видя, как стареют и морщатся красивые руки матери, как все сильнее горбится совсем молодой еще отец. Света старалась помогать по хозяйству чем могла, хотя мать с отцом все время запрещали ей это, полагая, что это отвлечет ее от уроков. Ведь война когда-нибудь кончится и необразованные люди никому не будут нужны! Света ходила в школу вместе с детьми таких же эвакуированных, в основном рабочих с оборонных предприятий. После уроков они иногда сажали морковь и картошку прямо на городских клумбах, чтобы хоть как-то помочь городу пережить сложности с продовольствием.
Морозные и ветреные сибирские зимы выстуживали все тепло в топившихся кое-как домах. Света остро, до боли в затылке тосковала по дому, по московским улицам, которые вспоминались почему-то все время весенними и наполненными людьми, жующими мороженое. Она вместе со всеми ждала, когда победоносная Красная армия отгонит врага от границ Родины. И дождалась.
В ту пору Света попробовала влюбиться в рыжего и веснушчатого мальчишку из местных, но он оказался так нерадив, что вымученной симпатии, разумеется, не случилось превратиться во что-то более серьезное или хотя бы мало-мальски запоминающееся.
Когда вернулись из эвакуации, переулок было не узнать. Разбитые окна. Разруха. Во дворе их дома образовалась огромная мусорная свалка, жутко смердившая. Света помнила, как сразу после войны соседние дворы наполнились разнообразной сомнительной публикой, без конца с яростным стуком «забивавшей козла» и громко матерящейся; как однажды поздней осенью ночью ограбили квартиру инженера Корбутовского, и потом по всем окрестным домам ходили милиционеры и расспрашивали, не видел ли или не слышал ли кто-нибудь чего-нибудь подозрительного; как на углу переулка и Собачьей площадки у мамы вытащили кошелек, и она заявила в милицию, а потом их приглашали в отделение на опознание, где посадили перед ними четырех отвратительных громил и спрашивали, не узнают ли они кого-нибудь.
И много чего еще она помнила…
После войны Света продолжила учиться в той же 93-й женской школе, куда ходила первые четыре класса. В последнем классе у нее появилась настоящая подружка, с которой можно обо всем болтать, все доверять, по любому поводу советоваться. Звали ее Генриетта Платова. Генриетта была личностью легендарной, поскольку в последнем, десятом классе сидела уже третий год. Она проживала вместе с матерью, Зоей Сергеевной, сотрудницей Минздрава, в том же Борисоглебском переулке, через пару домов от «вороньей слободки». Света и Генриетта так подружились, что почти не расставались.
Генриетта собиралась стать актрисой. Но для этого надо было все-таки окончить школу. Надо было, но никак не получалось.
Зима и весна 1947 года выдались для Светы особенными. И не только потому, что отменили продуктовые карточки. Просто детство кончилось, и, минуя инфантильное отрочество, жизнь полным ковшом зачерпнула безотчетную взрослость. Генриетта явилась тогда для семнадцатилетней Светы такой же наставницей, какой Света старалась быть ей в учебных делах.
Генриетта обладала свойством вырабатывать вокруг себя веселье. Она легко сходилась с людьми, становилась для них близкой, и с ней все с удовольствием проводили время.
Она затащила Свету в компанию, состоявшую из молодежи, обучавшейся в Щепкинском театральном училище. Все они были на три, а то и пять лет старше Светланы и казались ей безумно талантливыми и интересными. У многих из участников этой компании на войне погибли близкие, но вся страна тогда во что бы то ни стало стремилась избыть прошлую боль. В то время Света пережила свой первый бурный роман, кончившийся опасливой, запретной, но от этого не менее фееричной физической близостью, тогда же поняла, что свои сердечные дела нельзя доверять никому, и тогда же испытала первый страх из-за сбоя в цикле, но, слава богу, все обошлось. Ее первый мужчина, Виктор Суворов, бросил ее через неделю после того, как они провели несколько томительных часов в постели. Потом Генриетта, познавшая мужчин значительно раньше Светланы, целый час обучала плачущую подругу тому, как надо к ним относиться, убеждая ее, что переживать из-за «этих кобелей» — последнее дело. Света согласно кивала, но все равно рыдала истово, пока не выплакала всю свою влюбленность. Через месяц Суворова вышибли из «Щепки» за чудовищную пьянку, учиненную в общежитии. Больше Света никогда его не видела и ничего о нем не слышала.
Лев Семенович и Мария Владимировна привязались к Генриетте и относились к ней как к родной. Благодаря шефству Светы Генриетта все же подтянула успеваемость до уровня, когда о двойках речь уже не шла. Все шло к тому, что она наконец окончит школу. Мечта Генриетты о театральном училище зудела в ней все сильнее, и она делилась ей со всеми, с кем могла, ожидая, что кто-то ей поможет ее осуществить. Так в итоге и получилось. Выслушав в очередной раз плач Генриетты по актерской судьбе, Лев Семенович так проникся, что отправился к Елене Фабиановне Гнесиной и поинтересовался, нет ли у той каких-нибудь хороших знакомых в театральной среде, поскольку надо показать одну очень талантливую девочку. Гнесина тут же позвонила Николаю Анненкову, набиравшему в том году курс в Щепкинском училище. Строгому Анненкову Платова, как ни странно, приглянулась. На экзаменах все прошло гладко, и Генриетта была принята в Щепкинское театральное училище. Ее мать, Зоя Сергеевна, не знала, как благодарить Норштейнов. Однако чувство признательности в человеке редко задерживается надолго, и, когда через некоторое время Лев Семенович обратился к Зое Сергеевне Платовой, к тому времени уже получившей должность заведующей приемной министра здравоохранения СССР, с просьбой помочь обследовать страдавшую сердечным ревматизмом супругу, мать новоявленной актрисы ответила, что у нее нет знакомых среди врачей-кардиологов.
Светлана, как и планировалось в семье, поступила на факультет иностранных языков Московского педагогического института имени Ленина. С раннего возраста она демонстрировала отменные способности к иностранным языкам, и Лев Семенович решил, что из нее выйдет хороший педагог. Сама Света, конечно, подумывала подать документы в МГИМО, но отец с матерью отговорили ее под предлогом того, что туда без связей поступить фактически невозможно. На самом же деле Норштейн опасался, что помешать поступить Светочке может ее фамилия. Борьба с космополитизмом уже начиналась. Конечно, композитор не причислял себя к космополитам, он истово любил Россию, считал советскую власть единственным способом просвещать народ, но все же… Пусть лучше дочка учит детишек. Лавры Коллонтай ей ни к чему.
На первом курсе института, под томительную тоску ранних листопадов в Свету влюбился однокурсник Саша Голощеков, застенчивый и красивый мальчик из профессорской семьи. Они встретились пару раз в его просторной квартире, когда его родителей не было дома. В постели все получилось весьма буднично, жестко и как-то коряво. Как в первый раз, так и во второй. Саша сам сказал ей, извиняясь и оправдываясь, что, наверное, им не стоит больше встречаться. Света немного расстроилась. Хороший мальчик Саша! Тогда Генриетта снова взялась за нее, уговаривая, что надо отвлечься и перестать общаться только с унылыми однокурсниками, будущими учителями-мучителями в очках и с указками. Опять начались походы по разным «интересным квартирам». В этих квартирах много курили, часто влюблялись и до одури спорили красивые, не вполне советские люди. А потом у этих людей начинались неприятности.
Тогда же она привела Свету в дом к Гудковой, с которой до того познакомилась в очереди в их знаменитый угловой продовольственный магазин. Люда хоть и не походила на привычных приятелей и приятельниц Платовой, но жила напротив. А чем больше в околотке приятных людей, к которым можно запросто зайти, тем веселее в этом околотке живется, любила приговаривать Генриетта. Видно, она услышала это от кого-то, ей понравилось, и она запомнила.
Случалось, за Светой кто-то и ухаживал, но как-то блекло и необязательно.
Не сказать, что среди друзей и знакомых Генриетты она ощущала себя чужой, но все же целиком принять их правила ей было тяжело.
После того как она окончила институт и начала преподавать в школе, за ней стали волочиться мужчины постарше. Ее это раздражало, и она начала обретать известную неприступность.
Как-то поделилась этим с Генриеттой, на что та ответила со смешком:
— Когда много хочешь, можно остаться ни с чем.
И вот умер Сталин.
Дойдя до улицы Воровского, Света повернула налево. Оголенные и нервные ветки лип чуть нависали над проезжей частью. На другой стороне, около входа в Институт Гнесиных, приземистый и будто пучеглазый из-за огромных фар автобус, урча, затормозил на остановке, и из него вышел высокий молодой человек в легком клетчатом плаще. Что-то в не совсем пропорциональной фигуре неизвестного привлекло девушку. И дело было не в том, что в клетчатых плащах в Москве в те годы мало кто ходил, и не в том, что при ходьбе он немного выкидывал вперед свои длинные ноги, — просто в каждом его движении жило что-то, настраивающее на необязательно веселый лад, что-то до такой степени безобидное, что на душе светлело.
Олег Храповицкий вскоре заметил, что девушка, идущая по противоположному тротуару, вот-вот свернет шею, наблюдая за ним. Поначалу он забеспокоился, как позднее сам, посмеиваясь, рассказывал Свете, что с его внешним видом что-то не так. А потом какая-то безотчетная сила заставила его перейти улицу и окликнуть ее.
— Девушка, что случилось? Вы меня знаете? — спросил Олег, подойдя к Светлане и пристально вглядываясь в нее.
— Нет. — Света встретила его взгляд, но тут же отвела глаза.
— Но вы меня разглядываете, словно мы знакомы, — недоумевал Олег.
— Просто больше никого нет на улице.
— А-а-а-а! — Олег успокоился. — А вы куда идете?
— А почему я должна вам докладывать?
Через полчаса они уже общались как старые знакомые, и Олег совсем забыл, что собирался сегодня весь день просидеть в архиве ИМЛИ. Потом он не раз говорил, что эта встреча спасла его от неприятностей. Понятно, что в ИМЛИ в тот день Храповицкий никак бы не попал, — в день похорон Сталина институт был закрыт, — но его наивные попытки заменить скорбь по вождю работой над диссертацией могли бы вызвать гнев сурового академического начальства, а возможно, и не только его.
В молодости так бывает: люди, случайно встретившиеся, выкладывают друг другу столько всего о себе, что и самым близким столько не достается откровений. Олег рассказал, что он аспирант ИМЛИ, изучает поздний период творчества Пушкина, что «Медный всадник» — самая гениальная поэма в мире, что сам он из Ленинграда, а здесь снимает угол на Покровке, что хозяйка квартиры чрезвычайно колоритная старушенция и что она, похоже, из «бывших», хоть и скрывает. Светлана также много чего ему наплела о себе, но не столь искренно и хаотично, как Олег, а с некоторыми преувеличениями, свойственными дамам в разговорах с мужчинами. О похоронах Сталина ни он, ни она не сказали ни слова. Хотя, когда расставались около ее подъезда, Олег почему-то подумал, что такой день не стоило так легкомысленно проводить. Но мысли эти мгновенно улетучились.
1985
После того как старый Норштейн выпустил из объятий своего старшего внука, Арсений поднял глаза на мать и тихо, но очень отчетливо произнес:
— Мама, папе очень плохо. Я решил, что ты должна знать. Прости… — румянец его разгорался все сильнее.
Светлана Львовна не изменилась в лице ни капли. Черты ее лица не успевали за переживаниями. А переживания походили на движения жерновов, силящихся победить что-то твердое, но все же не способных к этому.
Некоторое время все молчали.
У Льва Семеновича начали мерзнуть ноги. Показалось, что слюна во рту загустела и ее невозможно проглотить. Он подавился, закашлялся, да так сильно, что дочери пришлось побить его по спине. Арсений наблюдал за этим встревоженно и не вполне понимал, что ему сейчас делать.
Вдруг дверь самой ближней к входной двери комнаты стала медленно открываться, и в коридоре появился взлохмаченный после сна Димка, в цветастой пижаме и в мягких домашних тапках.
— Ух ты! — вскрикнул Димка. Он часто представлял, как брат теперь выглядит.
— Здорово, брательник! — Арсений светло улыбнулся и весь как-то выпрямился, приподнялся.
Дед перестал кашлять и несколько раз сильно выдохнул воздух.
— Привет! — Димка нерешительно подошел к еще источающему уличный холод брату.
Они не обнялись, а просто негромко стукнулись лбами. Так они любили делать, когда Дима был еще маленьким и Арсений неустанно опекал и наставлял его.
— Ну как ты? — Арсений оглядывал Дмитрия, из малыша почти превратившегося в мужчину за то время, что они не виделись.
— Да все нормально вроде.
— Я соскучился. — Арсений беспомощно моргнул.
Но для этих четверых людей сейчас не существовало никаких законов и правил. Жизнь нежданно выставила их на свой ледяной сквозняк и ждала, как они с ним справятся…
Кто-то должен был спросить у Арсения, что же случилось с Олегом Храповицким такое, что он после стольких лет отчуждения решил сообщить об этом второй части расколовшейся семьи!
Если бы участники этой сцены могли посмотреть на себя со стороны, то посмеялись бы над тем, как они напоминают героев пьесы, которым автор никак не сочинит реплики. Но сейчас каждый из них действительно не находил слов. И уж никому из них точно не над чем было смеяться.
Мать после долгой разлуки разглядывала сына и поражалась, как он за эти годы стал похож на отца. А тот стоял и мялся, как в детстве, когда боялся, что мать догадается о чем-то раньше, чем он ей расскажет.
Милый Арсений! Зачем ты выбрал отца, а не мать? Неужели тебе показалось, что он любил тебя больше? — в который раз спрашивала она не его, а себя. Чего она недодала ему, раз он пренебрег ею ради этого ничтожества?
Светлана Львовна целиком погрузилась в молчаливое изучение сына, будто он не живой человек, а произведение искусства. Он, вероятно, только с поезда. Вид совсем невыспавшийся и мешки под глазами.
Сейчас Арсению, почему-то отметила про себя Светлана, столько же лет, сколько было его отцу, когда умер Сталин и когда они познакомились. Вдруг из памяти всплыл один эпизод из того первого дня — дня, который она вроде бы давно уже вычеркнула из всех воспоминаний и который, как оказалось, выжил и никуда не делся. Тогда, тридцать два года назад, в один момент воздух вдруг прорезал гудок всех заводов, автомобилей, автобусов и всего того, что могло гудеть в память об Иосифе Джугашвили. Так истерично город прощался со своим вождем, тираном, мучителем, отцом, который теперь собирался лежать рядом с другим вождем, чьим именем он всегда прикрывался и назвал немыслимое количество улиц, заводов, дворцов культуры и много чего еще. Света тогда так испугалась, что инстинктивно прижалась к Олегу. Она была значительно ниже его ростом, и лицо ее уткнулось в его грудь, вернее, в шерстяной, душно пахнущий красный свитер, совсем не гармонирующий с его расстегнутым светлым, в крупную клетку плащом.
1953–…
Понравился ли он ей при первой встрече? Вряд ли. Потом они не виделись целую неделю, и Света вовсе не убивалась по этому поводу. В те годы телефонизация еще не развернула свои щупальца по всей стране, а телефонный аппарат продолжал быть редкостью. Самая ходовая монета — «пятнашка», именно ее бросали в уличный автомат, чтобы связаться с теми счастливчиками, что обладали домашним номером. Разумеется, телефона в «вороньей слободке» в Борисоглебском не было. Света размышляла, что если бы Олег захотел ее найти, то придумал бы способ. Он же мужчина!
Жизнь Светланы между тем несла куда-то дни, наполняя их хлопотами, усталостью, еле отчетливыми планами, которым чаще всего не суждено было сбыться и которые исправно отменяли планы предыдущие.
Через неделю Олег деликатно, словно боясь кому-то помешать, постучал в дверь комнаты Норштейнов. Перед собой на чуть вытянутой руке он держал букетик пожухлой мимозы. Храповицкий был одет будто на праздник: белая сорочка сияла из-под нового на вид пиджака, стрелки на брюках смотрелись крупно и солидно, вычищенные до блеска ботинки на толстой подошве делали его еще выше, а просторное пальто уравновешивало его костлявую худобу. Во взгляде аспиранта блуждала настороженная торжественность. Его напыщенность вкупе с почти уродливым букетом рассмешили Светлану. Она пригласила его войти, напоила чаем, познакомила с родителями.
Оказалось, после их прошлой прогулки он крепко простудился и провалялся все это время с температурой.
Света показно недоумевала, как он добыл ее адрес, — неужели он обращался в Мосгорсправку? — но Олег напомнил ей, что она сама ему рассказала при первой встрече, где живет, да еще и обнародовала многие тайные подробности большой коммунальной советской жизни.
Девушка схватилась за голову: и правда. Как забыла?
А на следующий день они снова пошли гулять. Зашли в кинотеатр «Художественный», на популярный в тот год фильм «Максимка». Из кино они возвращались по улице Воровского. Перед тем как повернуть в Борисоглебский, Олег скороговоркой произнес:
— Свет, может, у нас что-нибудь получится?
У них получилась действительно хорошая семья. Семья, что называется, на века. Олег съехал из своей холостяцкой комнаты на Покровке и снял хоть и маленькую, но все же отдельную квартиру на Плющихе. Там, правда, Свете не понравилось, и они довольно скоро опять поменяли адрес, поселившись на Татарской улице, в Замоскворечье. Общие интересы, масса знакомых, светская жизнь, театры, консерватория с неизменным шампанским в буфете, идеальная, как они себя убеждали, духовная и физическая близость. Из всего этого они строили общий мир. Светлана вскоре после их свадьбы, в 1955 году, ушла из школы и начала преподавать английский в МГУ. Несколькими месяцами позже Олег защитил наконец кандидатскую и начал писать докторскую. У руководства ИМЛИ он был на прекрасном счету, ему прочили блестящую карьеру ученого. В феврале 1956 года мир огласил криком их первенец Арсений. По какой-то необъяснимой логике это произошло в день доклада Хрущева на ХХ съезде партии, развенчивавшего культ личности того, чьи похороны запомнились Олегу и Светлане совсем по другому поводу. Сына Светлана рожала тяжело, пуповина чуть не задушила младенца, но, слава богу, все обошлось. По случаю рождения внука Лев Семенович дал концерт в Доме композиторов, хотя уже очень давно не выступал как пианист. В первом отделении он исполнил вторую фортепианную сонату Рахманинова и «Гробницу Куперена» Равеля. Во втором — свой фортепианный цикл «В альбом на прощание». Потом в ресторане на первом этаже устроили небольшой, для самых близких друзей, банкет, на котором Моисей Вайнберг со свойственной ему после трехмесячного пребывания в Бутырке ироничной грустью посетовал на то, что Лев Норштейн не ведет широкой концертной деятельности. Норштейн в ответ отшутился: возможно, Арсений, его только что родившийся внук, поднимет упавшее исполнительское знамя.
Приглашал Норштейн на концерт и Лапшина. Но тот не пришел, сославшись на то, что гриппует и боится кого-нибудь заразить.
Вера Прозорова в это время находилась на пути из Озерлага в Москву.
Мария Владимировна с появлением на свет Арсения будто обрела вторую молодость и принялась растить внука с таким воспитательным усердием, какое никак нельзя было заподозрить в ней раньше. Хоть в Союзе театральных деятелей, куда она перевелась из Наркомпроса сразу после войны, умоляли ее не уходить на пенсию, поскольку считали незаменимой, счастливая бабушка, не раздумывая, ответила отказом. Ее новую работу ни с чем не совместишь. И ее никто, кроме нее, не в состоянии выполнить.
Олег безумно хотел еще детей, но жена долго не могла забеременеть во второй раз. Врачи только разводили руками, не находя к этому никаких медицинских предпосылок.
Летом 1956 года Норштейны-Храповицкие поселились в доме на Огарева, построенном с добротным архитектурным шиком и с явным налетом советской элитарности. Рядом высились похожие образцами сталинского городского строительства, стремящиеся показать, что советский человек теперь живет в условиях, мало чем отличающихся от барских. До хрущевских малогабариток и брежневских блочных многоподъездок еще оставалось некоторое время. Лев Норштейн вошел в композиторский кооператив, когда уже перестал и надеяться на это. Его вызвали в Музфонд и объявили, что его заявление удовлетворено. Накопленных Марией Владимировной средств с лихвой хватило для первого взноса. Правда, злые языки усердно распространяли слух, что, если бы не скончался Исаак Дунаевский, которому эта квартира предназначалась и который весьма энергично радел за строительство дома, периодически инспектируя стройку, так бы и куковали Норштейны в своей коммуналке. Однако подтвердить подлинность этого слуха никто не решался.
Мария Владимировна настояла, чтобы дочь, зять и внук переехали к ним и бросили эти дурацкие идеи об отдельном от родителей проживании, якобы идущем на пользу молодой семье. Хватит мыкаться по съемным углам, посчитала мудрая покровительница советских театров. Места в новой квартире всем хватит.
Квартира была действительно шикарной. В сравнении с комнатушкой в «вороньей слободке» она выглядела настоящим раем на этаже. Три изолированные комнаты, длинный и широкий коридор, высокие потолки с лепниной, большие окна и даже кладовка. Да и район что надо. Меньше чем в километре от Кремля. Самый центр! Эпицентр всего!
Светлана перекатала коляску с крошечным Арсением по всем окрестным дворам, полным в то время аккуратных старушек, гомонливых голубей и добродушных любителей домино и пива. Мария Владимировна исходила все окрестные магазины в поисках полезных для мальчика продуктов. Лев Семенович просидел все стулья в нотной библиотеке, находившейся теперь в доме, изучая картотеку и выбирая нужные ему клавиры и партитуры. А Олег освоил больше десяти разных маршрутов, по которым добирался пешком до ИМЛИ и обратно.
В 1958 году Олег вступил в партию. Домашние восприняли это с большим энтузиазмом, несмотря на то что вся семья принадлежала к беспартийным. Сам Олег, как-то засидевшись с тестем на кухне, признался ему, что сильно колебался, когда заместитель директора ИМЛИ порекомендовал ему подать заявление в КПСС. Конечно, для карьеры это очень полезно, но как смириться с преступлениями Сталина! Однако потом ему пришла в голову мысль, что сейчас, когда партия сама осудила репрессии и избавилась от тех, кто их организовывал, надо непременно вступать в ряды коммунистов всем порядочным людям, чтобы тем самым делать партию чище и человечней. Лев Семенович улыбнулся такой горячности. Особенно тому, как Олег без всяких сомнений и рефлексий отнес себя к порядочным людям. Не стал он разочаровывать зятя и по поводу избавления от тех, кто мучил страну. Он уже не раз наблюдал, как те, кто избавлялся, быстро превращались в тех, от кого избавились. И никто ни в чем никогда не каялся. Только искались и находились виноватые. Но всерьез думать в этом направлении — навлекать на себя и без того назойливые в нашем Отечестве беды.
Арсений подрастал, Лев Семенович и Мария Владимировна старались не стареть слишком быстро, Света и Олег не переставали находить друг в друге что-то новое и волнующее. От хрущевской «оттепели» в людях начинала собираться расслабляющая влага свободы, постепенно размягчая не только сердца, но и человеческие и общественные устои.
Примерно раз в год из Ленинграда приезжали погостить родители Олега. Они мнили себя потомками польских дворян и вели себя всю жизнь соответственно этому статусу. Отношения с семьей сына у них выстроились безмятежные, поскольку для аристократа главное — не показывать своих подлинных чувств.
Больше одного раза в год сына, невестку и внука они не навещали.
В январе 1968-го, ко всеобщей радости, на свет появился Димка. Арсений, хоть и давно грезил о братике, ликовал тихо. Выражать свои чувства слишком бурно и заметно он уже тогда, в детстве, полагал не совсем приличным.
Но спустя три года безмятежные и радостные дни этой идеальной советской семьи истаяли, как пивная пена в середине короткого застолья. Все изменилось в один день, когда весной 1971 года Марии Владимировне, отправившейся к врачу, чтобы пожаловаться на головные боли, поставили страшный диагноз — рак мозга. Четыре года она держалась за счет неимоверной внутренней силы, но в конце 1974 года ее поединок с болезнью прекратился, и она, хрупко и нервно угасая, догорела до конца, как свечка около иконы. Лев Семенович, любивший жену до безумия, как только она окончательно слегла, не отходил от ее постели, развлекал ее как мог, обихаживал. Когда она впала в беспамятство и не приходила в сознание, он подолгу разговаривал с ней, придумывая за нее несуществующие ответы.
На ее похороны Олега и Арсения Светлана Львовна не пустила.
Тогда уже все рухнуло окончательно…
Лев Семенович часто задавал себе вопрос: как так получилось, что его Света, его замечательная, умная девочка, проявила столько безжалостности к мужу и поддержавшему его старшему сыну? Дочерин характер повернулся неожиданной стороной. И эта сторона, увы, со временем все больше доминировала над всеми остальными ее качествами. И это рождало в Льве Семеновиче безотчетный страх, который он давил в себе, но далеко не всегда успешно. Никогда прежде она не была брюзгой, никогда не была помешана на политике в самых вульгарных ее проявлениях, никогда не демонстрировала непримиримость к тем, кто придерживался иной точки зрения. Он предусмотрительно держал в тайне от дочери то, что не прекратил общения с внуком и зятем и что далеко не все его походы к врачу заканчивались действительно в кабинете врача. Ее реакция была бы однозначной: неприятие и непрощение. Арсений частенько, особенно в первые годы после их переезда с отцом в Ленинград, наведывался в Москву, чтобы сыграть деду новое выученное произведение и получить бесценный совет. Происходило это в аудиториях Гнесинского института, куда Арсения пускали по старой памяти, — он оставил в институте хорошую память — и где когда-то сам Норштейн спасался от коммунальных неурядиц. Жаль, что в последнее время эти поездки прекратились. Остались только звонки. После того как дочь вышла на пенсию и много времени проводила дома, телефонное общение с внуком изрядно затруднилось. Эх, если бы не тот случай перед третьим туром конкурса Чайковского, то сейчас он играл бы в лучших концертных залах мира. Но увы… Указательный палец левой руки, сломанный неожиданно сорвавшейся с опоры крышкой рояля, сросся чуть-чуть неправильно. В принципе это не помешало быстро вернуть форму, но Арсений с тех пор никак не мог преодолеть страх перед сольными выступлениями, боясь не вытянуть виртуозные места. Без публики он играл блестяще, даже глубже и тоньше, чем прежде. Но только без публики. Зато открыл в себе изумительного ансамблиста-концертмейстера. Эх, часто говорил себе Норштейн, играй он в конкурсе не на фоне семейной ссоры, все могло бы быть иначе. Наверное, он сам не до конца закрепил тогда крышку, был не очень собран, смятен из-за того, что происходило в семье. Выходит, Светлана виновата в том, что у Арсения такая жизнь? Совсем не та, какую он заслуживал по своему таланту?
Виделся Лев Семенович и с иногда приезжавшим в Москву вместе с Арсением зятем, Олегом Храповицким. Тот работал в Пушкинском Доме и по совместительству читал лекции в ЛГУ. Ему досталась квартира родителей, которые с такой же шляхетской гордостью, как и жили, умерли один за одним еще в конце шестидесятых. Арсений первое время делил кров с отцом, но, когда начал работать в филармонии, получил жилье где-то недалеко от Финляндского вокзала.
1948
Зимой и весной того года Лапшин чувствовал себя одинаково плохо. Лечился морфием, ходя на прописанные врачом уколы в районную поликлинику в Пушкине, похожую больше на полевой медпункт, но не отказывался и от «добавочных» порций у Людочки. В мае он нашел в себе силы признаться: он заглядывает к Гудковой все чаще не только потому, что боль невыносима и больничного морфия ему недостаточно, и не потому, что иногда болезненная всепоглощающая слабость не позволяет ему добраться до его сиротского жилья. Правда в том, что ему все больше нужен морфий как таковой, чтобы испытать весь спектр связанных с ним ощущений, томительных, будоражащих, высвобождающих неведомые силы, смиряющих с телесным несовершенством. Да и странное общество, что всю зиму и весну собиралось у его бывшей одноклассницы и куда он органично влился, необъяснимо притягивает его, хотя те разговоры, которые витают по Людочкиной комнате, должны были бы заставить его бежать без оглядки. А он не только не бежал, но еще и привел с собой друга, хохмача, бонвивана Мишу Шнееровича… Зачем?
С ним они сегодня договорились встретиться около «Кинотеатра повторного фильма», чтобы идти к Гудковой вместе. Шура стоял на самом углу Герцена и Никитского бульвара, не спеша, с сознанием дела, курил и привычно прислушивался к себе: боль жила сегодня в нем глубоко и тихо, почти не показываясь и не напоминая о себе. Но укол все равно нужен, уговаривал он себя. Без него боль разгуляется. Все равно придется! Лучше уж сразу.
За последние месяцы Лапшин как к родным привык к четырем девушкам, чье появление так внезапно и необъяснимо всполошило тот февральский вечер, когда Людочка впервые заговорила с ним о необходимости решиться на операцию.
Из того их девичьего, снежно-задорного прихода потянулась змейками легкой поземки некая новая история, в которой все они вместе отметились, в которую все они попали, в которой всем им до поры до времени было хорошо. Почему? Просто эти пять женщин и один измученный мужчина всякими своими фразами, жестами, взглядами, своими запахами и движениями, тембрами своих голосов и повадками создавали такое целое, в котором страхи притуплялись и намечалась иллюзия, что чем больше и чаще они будут оставаться вместе, тем дальше отползет от них всесильный дракон повседневности.
Лапшин недолго был единственным мужчиной в женском обществе. Кроме введенного в «борисоглебский круг» самим Шуринькой Шнееровича в одну из посиделок всплыл некий Сенин-Волгин, крайне любопытный тип, математик и самодеятельный поэт, фанатично злоупотребляющий алкоголем и крамольными разговорами.
Но все же основой компании, ее необходимостью, ее сутью являлись дамы.
И каждую можно было изучать как партитуру, не такую уж прихотливую, но все же с неким изыском.
Вера Прозорова — это яркое романтическое скерцо, остроумная, смелая, даже чуть беспардонная, вращающаяся во многих кругах, родственница второй жены Нейгауза, знакомица многих его учеников, в частности Рихтера. Не эрудированная, но с цепкой памятью, способная производить впечатление персоны, причастной к интеллектуальным тайнам. Она не то чтобы принуждала всех влюбляться в себя, но почти на физическом уровне не переносила, когда замечала, что мужчина никак, хотя бы втайне, не мечтает о ней. Насчет Шуриньки она, как он предполагал, некоторое время сомневалась: влюблен или нет, — не назойливо, но регулярно проверяя, не дрогнуло ли его сердце, не пополнит ли он череду ее воздыхателей, не предпримет ли штурма. Однажды она даже приехала к нему на Зеленоградскую: ему было так плохо, что он с трудом поднялся, чтобы встретить ее. Поводом для встречи стало желание Веры дать Лапшину почитать мартовскую книжку «Нового мира», где были опубликованы новые стихи Смелякова и Симонова. Вера любила поэзию почти так же страстно, как любила любовь к себе окружающих. Сидела она у него очень долго, говорила без умолку, острила и безудержно хохотала над собственными остротами. Шура изнемогал от боли, но не подавал виду, стараясь поддерживать беседу. Наконец он вежливо напомнил ей, что скоро уйдет последняя электричка до Москвы. Верочка заметно расстроилась, нахмурилась и спешно засобиралась. Уходя, загадочно бросила:
— Иногда борьба с собой не нужна и смешна.
Вторая девушка, Генриетта Платова, чем-то была похожа на Веру — та же дерзость, тот же задор, но если в Вере бурлила безостановочно романтическая самовлюбленная дребедень, заставляющая ее потакать только своим порывам и свирепеть, когда другие эти порывы игнорировали, то Генриетта жила не так эгоцентрично, с неторопливым достоинством в повадке, тонко и метко, видимо, в силу особой гибкой природы ориентировалась в окружающих, заставляя их действовать по ее плану, но так, чтобы никто не посчитал себя к чему-то принуждаемым. Учеба в театральном училище не проходила даром, она наигрывала и в жизни, но со вкусом, со вниманием к партнеру.
Иногда Лапшин дивился: что связывает Платову со Светой Норштейн, дочерью его доброго знакомого, которая участвовала в их непричесанных сборищах, кажется, только по настоянию подруги? Она всегда уходила раньше всех, ссылаясь на разные необходимости. Чувствовалось, что ей скучновато и что компания эта не дает ей того, чего она от нее ждет. Особенно напрягалась Света от выходок Сенина-Волгина, который в подпитии ничего себе не запрещал, даже называть Сталина сухоруким и щербатым. Глазами она искала защиты у Лапшина, он, как приятель ее отца, видимо, ассоциировался у нее с чем-то надежным, что может почти по-родительски уберечь ее от неприятностей, которые разбрызгивал вокруг себя Сенин-Волгин. Один раз Лапшин, когда Сенин-Волгин принялся распевать весьма непристойные частушки, поймав просящий взгляд девушки, довольно делано произнес:
— Что-то Света сегодня совсем неважно выглядит. Может, отпустим?
Гудкова тогда недоумевала:
— А что, она сама немая? Света! Что у тебя болит? Может, дать какую таблетку?
— Нет, нет. Просто переутомление. Надо, наверное, полежать. Спасибо. Я пойду.
После ее ухода Евгений Сенин-Волгин зло пробурчал:
— Все с ней в порядке. Просто корчит из себя образцовую советскую студентку. Хочет и рыбку съесть, и на хрен сесть. Знаю я таких.
Этого Сенина затащила в Борисоглебский Таня Кулисова. О ней у Лапшина сложилось самое нечеткое представление. Будто талантливое, но недописанное сочинение. Говорит редко. Так редко, что не разобрать, умна она или глупа. Ест подчеркнуто аккуратно. Держится прямо, но не скованно. Всегда в одной и той же темной блузе с белым воротником. Улыбается по-разному. То еле-еле, неохотно, словно по принуждению, то лукаво и недлинно, со смыслом, то широко, открыто, слегка обнажая зубы. Слушает каждого из гостей очень внимательно. Оживляется при разговорах о литературе. Откуда она добыла Сенина-Волгина? Что у них общего?
Людочку Лапшин от этой четверки отделял. Ему не требовалось познавать ее, он давно, с детства, сжился с ней. Когда мужчина знаком с женщиной слишком долго и никогда не делил с ней постель, он чаще всего не в состоянии воспринимать ее гармонично.
Тайна познания отдельно взятой женской сути для мужчины не бесконечна. И если не дошла до конца, то на этом месте и замирает, чтобы затем превратиться из чего-то живого, нервного и неугомонного в обычный факт знакомства.
Шнеерович задерживался. И Лапшин уже начинал злиться. Ему нужен был укол, как можно скорее. Он рассчитал время так, чтобы появиться у Люды, пока ее комната не набьется гостями. А тут приходится ждать.
Московские деревья снова поверили в себя после долгих месяцев тяжелых холодных терзаний и выбросили крошечные флажки нежно-зеленых трепещущих листьев, словно давая сигнал, что все плохое забыто и, наверное, не вернется. Хозяйки в массовом порядке мыли окна, отчего еще чуть уставшее предвечернее солнце отражалось в стеклах с необъяснимой яростью. Городские птицы облепляли карнизы, подоконники, прыгали по тротуарам, таились в ветках и листве, довольно поквохтывая и попискивая. Прохожие передвигались быстрее обычного. В этой спешке угадывалось желание успеть за природой и начать такие дела, чтобы на всю весну хватило. Машины сигналили друг другу более нервно, чем в пасмурные дни. Всем хотелось куда-то приехать.
Наконец он приметил приятеля, семенящего по неровному, с выбоинами асфальту. Шнеерович ходил так, будто при каждом шаге чуть-чуть подпрыгивал:
— Ну что ты? Где ты был? Я уже думал уходить… — укорял приятеля Лапшин.
— Что-то закопался. Никак ботинки не мог найти… — оправдывался Михаил.
Друзья перешли бульвар, где упоительно пахло свежей землей с клумб, прошли белую, невысокую церковь с аккуратным палисадником, потом, оставив по левую руку поворот в Мерзляковский, оказались в Медвежьем, где сразу почувствовали себя почти в глуши. Сюда не долетали шумы автомобилей, а дома жались друг к другу так тесно, что почти весь переулок утопал в тени.
— Интересно, почему его назвали Медвежьим? — спросил Шнеерович.
— Может, место тут когда-то было больно глухое. Оно и сейчас какое-то захолустное, — задумчиво произнес Лапшин.
— Да ну, вряд ли, — засомневался Михаил. — Медвежий угол в смысле? Нет. Наверное, все же с медведями связано. С настоящими медведями.
— Тебе виднее, — раздражился Лапшин. Его выводило из себя, что Шнеерович идет слишком медленно, да еще с разговорами неуместными пристает.
Лапшин любил Шнееровича. Но иногда диву давался, каким его товарищ бывал несуразным и несвоевременным, а порой и беспардонным.
В конце весны и в начале лета в московских подъездах появляется особый запах: и состоит он вроде бы из того, что особо не пахнет, — из пыли, из теплого камня лестниц, из нагретых оконных рам, но в сочетании дает неповторимый тон и веру, что с приходом теплой поры все будет даваться легче.
Как только Людочка открыла дверь, Лапшин заметил, что она чем-то сильно встревожена. Во взгляде ее читалась такая обеспокоенность, которая требует немедленного вмешательства. Поэтому на шутки остряка Шнееровича она реагировала сухо и даже раздраженно. Все в ней говорило, что ей не до шуток. Молодой музыкант делал вид, что его не касается настроение хозяйки, и продолжал сыпать анекдотами, местами весьма сальными.
Шнееровичу не пришло в голову выйти из комнаты, когда Людмила готовилась вколоть Шуриньке очередную дозу морфия. Пришлось попросить его дать ей провести медицинскую процедуру без посторонних. Однако его шаги и пение из коридора доносились так громко, что казалось, будто он остался в комнате, только стал на время невидимым. Лапшин попросил хозяйку не обижаться на Шнееровича: он, конечно, иногда ведет себя на грани приличия, но в целом он надежный друг и хороший музыкант. Людочка без энтузиазма покачала головой в ответ: Шнеерович ей не нравился совсем, но раз Шура его хвалит, придется терпеть.
Шнеерович в это время вступил в разговор с соседом Людмилы, одноруким инвалидом Власом, на свою беду вышедшим в это время из своей комнаты. Михаил принялся угощать Власа анекдотами с таким усердием, как иные горные народы угощают гостей местными яствами, пока те не изнемогут и не запросят вежливо пощады. Монолог Шнееровича порой перебивался репликами однорукого, всегда одними и теми же: «Вот дает! Артист!»
Пользуясь тем, что болтун увлекся, Люда начала с Лапшиным разговор, к которому давно готовилась:
— Шура, тебе необходимо решиться на операцию. Дальше так продолжаться не может. Мы оба погибнем.
Лапшин снял очки, беспомощно прищурился, потом уставился в одну точку на потолке. Молчал. Ничего не спрашивал. Так подсудимые ничего не спрашивают у судей, когда уверены в обвинительном приговоре.
Люда выждала и добавила с тревожным напором:
— Я больше не могу приносить морфий из больницы. Я уверена, что наша старшая сестра что-то подозревает. Если вскроется, что я… — девушка перешла на шепот, — подделываю назначения больным, которые в инъекциях не нуждаются, а морфий уношу, меня не пощадят.
Шуринька вскочил, положил руки на грудь, потом на лицо, будто не ведал, куда их деть.
— Я не знал, что ты… подвергаешься из-за меня такой опасности. Какой кошмар! — в Лапшине все внутри закрутилось, сдвинулось, чтобы через несколько секунд замереть в недоумении, в неосуществленном крике.
— А ты думал, откуда все берется? — зло бросила Люда и тоже встала. Она доставала ему ровно до подбородка. — Мне его дарят? Или в СССР можно выносить лекарства из больниц свободно?
— Прости меня. — Шура автоматически, без капли теплоты прижал ее голову к себе. — Конечно, не надо больше брать для меня морфий. Я потерплю…
— «Потерплю»? Тебе надо всерьез поговорить с врачом. Ты становишься наркоманом. Это страшнее, чем язва, поверь. Думаешь, я слепая? Не хочу больше быть твоей убийцей.
— Но мне прописано лечение морфием! Разве нет? Я попрошу врача увеличить дозу. Надо было раньше. Я правда, правда не подозревал, что ты так рискуешь.
Люда отвернулась и бросила сквозь зубы куда-то в сторону:
— Идиот…
Шура услышал, конечно. Сжал губы. Чуть пригнулся, словно беспомощно защищаясь от чего-то.
Девушка впервые себе позволила в адрес обожаемого Шуриньки такое.
В этот момент дверь в комнату отворилась, и сияющий Шнеерович показался в проеме:
— Ну что, можно уже войти? Мой друг получил необходимую помощь? Из дивных рук? Мой друг? Не вдруг?
Люда, глазами попросив рифмача-самоучку посторониться, молча вышла из комнаты, унося с собой металлическую коробку со шприцами, ампулы, вату.
— Не паясничай, Миша! — осадил Лапшин Шнееровича. — Людочка — мой спаситель. Если бы не она, я едва ли пережил бы эту зиму.
Два звонка. Веселых и решительных.
— Может, ты откроешь? — попросил Шуринька товарища.
— Уже бегу. — Шнеерович с картинной четкостью развернулся и, имитируя бравурный строевой шаг, проследовал прочь и вскоре, прогремев сперва замком, начал церемонно приветствовать вновь прибывших.
Часть вторая
Арсений
Первые годы своей жизни Арсений Храповицкий не демонстрировал никакой склонности к музыке. Дед пару раз сыграл ему несколько несложных песенок и потом попросил их пропеть. Мальчик в ответ провыл что-то неопределенное и мало похожее на услышанное. Ну, слава богу, решил Норштейн, в мире столько профессий, кроме музыкальных, пусть будет врачом или ученым. Не всем же тащить эту «блаженную муку звуков» за собой всю жизнь. Музыкальные способности открыл в Арсении не кто иной, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Произошло это при весьма своеобразных обстоятельствах.
Норштейн и Шостакович дружили, хотя иногда между ними вспыхивали яростные ссоры, после которых обидчивый Дмитрий Дмитриевич мог неделями не общаться c приятелем, но потом внезапно звонил в дверь Норштейнов, быстро проходил на кухню и ставил на стол пол-литра и какую-нибудь нехитрую закуску, вроде банки соленых огурцов.
И тогда беседы их наполнялись особенным взаимным азартом, внутри которого разность каждого из них уравнивалась почти одинаковым представлением о том, каким может быть мир, если законы гармонии восторжествуют над низменными инстинктами.
В один из весенних дней 1962 года Шостакович объявился в квартире Норштейна после весьма крупной размолвки.
Кошка на этот раз пробежала между композиторами после очередного доклада Шостаковича на пленуме Союза композиторов РСФСР, которым он тогда руководил. В докладе подвергалось жесткой критике бюро пропаганды Союза композиторов за несбалансированную концертную политику. А это бюро возглавляла бывшая соседка Норштейнов, та самая Елена Петровна Хорошко, которую Лев Семенович в свое время устроил на работу в Музфонд и которая, проявив феноменальную работоспособность, за очень короткое время вникла во все музфондовские нюансы. Отсутствие музыкального образования вдова военного прокурора компенсировала чудодейственной усидчивостью и природным тактом и вкусом. После доклада Шостаковича с явно несправедливыми обвинениями она с трудом сдерживала слезы. Норштейн сразу же, в зале, подошел к Шостаковичу и спросил его, что тот имеет против прекрасно работающего бюро. Автор Ленинградской симфонии сослался на то, что доклад писался в ЦК партии, а он только зачитал его. Норштейн в сердцах выругался матом, что случалось с ним крайне редко. Шостакович возмутился и заметил Льву Семеновичу, что тот не имеет никакого права его оскорблять.
В этот раз Шостакович к перемирию принес две бутылки водки, чем насмешил Норштейна невероятно: гений решил взять количеством. В прихожей Дмитрий Дмитриевич суетливо доложил Льву Семеновичу, что позвонил Елене Петровне, объяснился с ней и та больше не держит на него зла.
После первых двух рюмок Шостакович достал из той авоськи, в которой принес водку, партитуру новой, 13-й симфонии «Бабий яр». Норштейн изумился: ведь Шостакович редко кому показывал произведения до их исполнения. Однако выяснилось, что Дмитрий Дмитриевич и не собирается ничего демонстрировать другу. Он вкратце пересказал свой замысел и робко поинтересовался у Норштейна, не возникнут ли проблемы с исполнением симфонии из-за части «Бабий яр». Когда Лев Семенович попытался уточнить, что конкретно беспокоит композитора, лауреата стольких премий и крупного композиторского начальника, тот как-то двусмысленно пожал плечами, грустно огляделся и убрал рукопись обратно в авоську, при этом руки его так задрожали, что партитурные листы рассыпались по полу. Тут в комнату вбежал с визгом шестилетний Арсений, собирающийся вызвать деда на игру в прятки, но, увидев распавшуюся симфонию, бросился к ней и уставился на нотные линейки, исписанные неровными палочками, точечками и другими неведомыми ребенку знаками…
Ребенок напряженно изучал ноты, гений русской музыки добродушно изучал ребенка, композитор Норштейн наблюдал за ними. Наконец Дмитрий Дмитриевич обратился к Льву Семеновичу:
— Мне кажется, он будет музыкантом. Он так смотрит на ноты, словно все понимает в них.
Арсений поднял глаза и с тихой благодарностью прижался лбом к коленке классика, а потом вопросительно уставился на деда.
Лев Семенович оторопел от этой cцены. Таким серьезным Арсюшку он раньше не видел.
Зачем Шостакович в тот день приносил партитуру, так и осталось неизвестным.
На следующий день Норштейн усадил внука за инструмент. Честно говоря, он никогда прежде не занимался с маленькими и довольно долго размышлял над тем, как проверить, верна ли догадка гениального соседа.
Наконец он придумал. Заранее написав на нотном листе ноты в скрипичном ключе, он поставил его на пюпитр и стал называть их Арсению. Каково же было удивление Льва Семеновича, когда Арсений сразу не только повторил их, но и спел, демонстрируя абсолютный слух.
После этого старый Норштейн как был, в тапочках и домашней одежде, чуть не вприпрыжку пустился в нотную библиотеку Союза композиторов, которая, по счастью, находилась в соседнем подъезде. Взяв там все имеющиеся пособия для детей, он вернулся, застав Арсения наигрывающего что-то весьма оригинальное и музыкально логичное, причем абсолютно поставленными пианистическими руками.
Весну и лето дед занимался с внуком истово, увлеченно, тот прогрессировал очень быстро, и к осени его приняли в Центральную музыкальную школу сразу во второй класс.
Олег и Светлана сперва крайне настороженно относились к этому эксперименту, но потом прониклись и радовались успехам Арсения со свойственной родителям самозабвенностью, хотя в музыке всерьез не разбирались.
На премьеру 13-й симфонии Шостакович пригласил все семейство Норштейнов, включая маленького Арсения. Тот, несмотря на все страхи родителей, просидел до самого конца с горящими глазами. Понял ли Арсений тогда что-то в этой трагической и в то же время фарсовой музыке? Лев Семенович был уверен, что гениальное сочинение проникло в малыша, несмотря на то что мальчик ничего еще не знал ни о Бабьем яре, ни о заканчивающейся «оттепели», ни об авторе стихов Евтушенко, ни о советской власти. На той премьере многим запомнилось, как вальяжно кланялся поэт и как композитор выходил на поклон неохотно, нервно, похоже, не очень довольный то ли исполнением, то ли собой, то ли еще чем-то.
Симфонию вскоре запретили к исполнению.
* * *
Димка, когда подрос, стал догадываться, что дедушка после семейного разрыва не прекратил общение с его отцом и его братом. Почему? Да потому. Не мог дед пойти на поводу у матери! Мог только изобразить. Дед не из тех, кто бросает близких на произвол судьбы. Но вот почему он не посвящает в это его? Ведь в другом они достаточно откровенны. Вероятно, по его мнению, Дима еще мал, чтобы переварить все это нелепое, взрослое, запутанное…
Скучал ли сам Димка по отцу и брату? Конечно. Но их образы постепенно стирала обида на то, что они не предприняли ни одной попытки, чтобы увидеться с ним, чтобы хоть что-то изменить к лучшему! И слезы, которые он проливал по ночам, высыхали от своей бесполезности.
Новые обстоятельства поглощали старые. Из мальчика он вырастал в мужчину. И учился терпеть. И забывать то, что угнетало.
Он дорожил материнской любовью. После того как семья раскололась, вся она, иногда горькая и отчаянная, а порой истерично переходящая в раздражение и недовольство, досталась ему одному. Когда Светлана Львовна неоправданно сердилась, он не обижался, а страдал. Страдал и за себя, и за нее. Его мальчишеский мозг судорожно искал виноватых в том, что произошло в их семье, что так изменило мать и что лишило его отца и брата. Искал и не находил. Верил, что рано или поздно найдет.
Но ни бывшему мужу, ни родителям, ни детям не могло прийти в голову, из-за чего Светлана Храповицкая превратилась в ту, о ком вежливые люди говорят «своеобразный человек», а те, кто поразвязней, кличут за глаза сумасшедшей грымзой.
* * *
С ума она сошла из-за любви. Любви, которая настигла ее в сорок лет, преобразила и изменила все не только внутри нее, но и вокруг, будто кто-то наконец настроил до этого сбитый фокус ее взгляда на себя, на людей, на события, на прошлое и настоящее.
Света вышла из второго декрета значительно раньше положенного. Уговорил ее на это Олег. Видя, что супруга начинает закисать от ежедневных забот и все чаще вспоминает своих коллег по кафедре, он организовал что-то вроде семейного совета, на котором все пришли к выводу: Димке нужно брать няню. Это позволяло Светлане вернуться к преподаванию и не чувствовать себя вычеркнутой из той среды, где она прежде так хорошо себя чувствовала. Молодая мать сперва колебалась, не уверенная в правильности такого поворота, но потом все же дала себя уговорить. Ей действительно было тяжеловато замыкаться лишь на домашних заботах, ее натура не умещалась в такую участь, да и Мария Владимировна в силу возраста не могла уже помогать ей с Димкой так много, как с Арсением, что добавляло Светлане дополнительных сложностей. Плюс ко всему она действительно обожала свою работу, успехи и неудачи студентов воспринимала как личные, а с некоторыми, особенно увлекающимися английским языком и английской литературой, имела доверительные отношения. Ей нравилось стоять на кафедре, подходить к доске, писать на ней мелом по-английски, ловить взгляды учеников и постепенно завладевать их юным горячим вниманием. Так что преждевременный выход на работу Светлану Храповицкую, как и предполагал ее муж, в целом обрадовал.
Часов она взяла немного, чтобы не отрываться от ребенка надолго. Первое время она опасалась, что Дима плохо отреагирует на то, что мать перестала находиться рядом каждую секунду, но няня, по имени Дуняша, оказалась благонравной, веселой и очень аккуратной. Со всем семейством Норштейнов–Храповицких она быстро свыклась, регулярно потчуя обитателей квартиры в доме на Огарева захватывающими и, как водится у простых людей, наполовину выдуманными историями из своей жизни. Чаще всего в них фигурировали ее многочисленные родственники, часть из которых проживала в подмосковном Серпухове, а часть в деревне Шепилово. Из этой благословенной деревни, по описаниям Дуняши расположенной в исключительных местах, Норштейнам–Храповицким летом и осенью перепадали свежие, с огорода, помидоры и огурцы, а круглый год племянник Дуняши Сергей привозил на продажу свежайший, домашнего приготовления творог. Через какое-то время этот творог стали заказывать многие соседи, а Сергей превратился в весьма популярную на Огарева личность. Стоил этот творог по советским временам не так уж дорого, три рубля за килограмм, и семьи советских композиторов вполне могли пополнять карман деревенских держателей обильно дающей молоко коровы.
За Димкой няня смотрела внимательно и любовно и быстро научила его самостоятельно есть и даже одеваться. В выходные дни малыш звал Дуняшу и плакал оттого, что ее нет. Иногда Светлана тихо досадовала на это. Но совсем немного. Дуняше она тоже симпатизировала.
1948
Никогда еще Лапшин не выходил от Людмилы в таком скверном настроении. То, что он услышал от хозяйки комнаты, где он за последние месяцы всегда обретал спасительный приют, перевернуло в нем что-то и в этом новом повороте оставило его беззащитным.
А надо было что-то предпринимать. Если он не пойдет на резекцию желудка, то, вероятнее всего, превратится в наркомана и подвергнет Люду еще большей опасности. А операцию он, скорее всего, не перенесет. И как быть?
День иссякал, придавая старомосковским перспективам романтическую загадочность. Лапшин шел по Борисоглебскому к Арбату. Курил. С каждым шагом и с каждой затяжкой все больше укрепляясь в том, что ложиться под нож необходимо.
Он сегодня покинул сборище раньше всех. Шнеерович просил его подождать, но Лапшин сослался на то, что завтра рано к нему придет хозяйка комнаты, где он живет, и ему надо успеть на электричку. Неприятно, что соврал, да еще так неуклюже, но сил выносить чье-либо общество у него на сегодня не осталось. Да и обстановка в этот вечер у Людочки была непривычно неприязненной. Сенин-Волгин вел себя слишком экзальтированно даже для себя. Причем, как ни странно, Шнеерович нашел в нем почти союзника. Они наперебой острили, не стесняясь выбирать предметом своих острот присутствующих. Досталось всем. Но если Платова и Прозорова видели в этих шутках часть своеобразного флирта и игриво отвечали на выпады, то Света Норштейн явно злилась, хмурилась и готова была взорваться в любую секунду. Танечка Кулисова, по обыкновению, помалкивала, а Людочка то и дело куда-то выходила. Надо сказать, что этими отлучками хозяйки Сенин-Волгин пользовался, чтобы позлословить и в ее адрес.
Кончилось все тем, что Света выбежала, наговорив резкостей Людочке, которая, по ее мнению, пускает к себе в дом хамов и не дает им никакого отпора. Сенин-Волгин помчался за ней на лестницу и вскоре вернул ее обществу, видимо извинившись или чем-то еще смягчив девичье сердце. Людочка и Света публично примирились, обнялись и расцеловались.
Тут Лапшин понял, что надо уходить. Теснящая его тоска понуждала к тому, чтобы куда-то идти, идти, идти.
Так он пересек Собачью площадку и добрался до Арбата, почти не осознавая пути.
По Арбату, время от времени протяжно гудя, катили автомобили. Милиционер в белой форме и с жезлом смотрелся весьма нелепо. Лапшин слышал, что на этой улице много энкавэдэшников в штатском. Шнеерович как-то уверял его, что они стоят почти через каждый шаг и что их легко узнать по одинаковым шарфам. Но Лапшин, сколько ни ходил по Арбату, никогда не мог их различить.
Шуринька остановился недалеко от проезжей части, раздумывая, куда дальше идти. Перед глазами все чуть покачивалось. Он замер и задержал дыхание. Потом принялся сколь мог часто вдыхать и выдыхать. Такое упражнение с детства помогало ему прийти в себя при любом недомогании. Но сейчас не особо действовало. Лапшин непроизвольно стал считать проезжающие мимо машины темного цвета. Один, два, три. Третья машина проехала очень близко от него. Так близко, что он успел увидеть в окне знакомый профиль. Резко изогнутая бровь. Узкий, прищуренный глаз, нос с достаточно крупной ноздрей, пышные усы, чуть стесанный подбородок. Сталин? Нет. Так не бывает. Но все же он испугался и отшатнулся в сторону. Чуть не упал. Потом засеменил прочь. Шум машин вдруг стал раздражать до боли в ушах. Это был Сталин! Точно Сталин! Профиль в окне машины застыл перед его глазами.
Трубниковский переулок сейчас показался ему уютней Борисоглебского.
Чем дальше уходил от Арбата, тем тише. Диминуэндо до полной тишины.
Он заглянул в какой-то двор, посидел на лавочке, выкурив подряд две папиросы, потом вскочил и быстро зашагал куда-то во тьму.
Может быть, вернуться к Людочке? Сказать, что опоздал на электричку.
Кто-то словно вытягивал из него силы, а он не мог сопротивляться этому…
По Трубниковскому дошел до улицы Воровского. Потом снова углубился в дворовую сеть со свалками, лавками, арками, сквозными проходами. Выбрался из них на Собачью площадку. Почувствовал, что совершенно обессилел. Еле-еле дотянул себя до неработающего фонтана около одного из домов. Сел на одну из двух поднимающихся к фонтану ступенек, лицом к одноэтажному длинному фасаду с распахнутыми окнами. Привалился спиной к чугунному основанию. Затих. Впитывал звуки успокаивающегося весеннего города. И тут услышал такое, что едва его не убило. Два голоса. Женский и мужской. Мужской — тихий, но очень твердый. Незнакомый. Женский — как будто извиняющийся. Торопливый. Докладывающий. Узнаваемый. Он слышал его совсем недавно. Правда, голос звучал совсем по-другому. Мать честная… Что это? Шуринька плотнее вжался спиной в прохладный камень. Хотелось исчезнуть в этот же миг и никогда больше не появляться на свет.
— Что конкретно Сенин-Волгин говорил о товарище Сталине? — вопрошал мужчина.
— Он конкретно не говорил про товарища Сталина… — женщина, видимо, задумалась, чтобы дальше формулировать четче. — Но советскую власть называл блевотиной. Это так. Но ведь все мы знаем, что советская власть и товарищ Сталин — это почти одно и то же.
— Заткнись! Твое мнение о природе советской власти нас не интересует. А еврейчики-музыканты что? Поддакивали?
— Лапшин больше молчал. Хотя видно, что солидарен с Сениным-Волгиным, а Шнеерович открыто поддерживал.
— Угу… Итак, на каждом этом сборище ведутся антисоветские разговоры.
— Да. Без них не обходится…
— Прозорова, разумеется, из зачинщиц.
— Да. Она всегда улыбается, когда Сенин-Волгин проклинает советскую власть.
— А Запад они, разумеется, хвалят.
— Шнеерович сегодня распалялся, что в СССР запрещают какого-то Берга.
— Ясно. Еврей еврея не обидит.
Слышно было, как мужчина чиркнул спичкой. Потом до притихшего и боящегося вздохнуть Лапшина дошел едкий запах папиросы.
— А этого Шнееровича привел Лапшин, значит?
— Да, около месяца назад где-то Шнеерович появился… — с каждой репликой голос женщины звучал спокойней.
— И они большие приятели? — мужчина спрашивал все это с ленцой, не сомневаясь в ответах.
— Конечно.
— Значит, Лапшин такой же антисоветчик и враг, только скрытый.
Тут Шуринька не выдержал. И хотя все его существо сейчас подсказывало ему сидеть сколь можно долго, пока голоса не уйдут, он, вопреки всякой логике и осторожности, резко вскочил, так что в голове все зазвенело, и что есть силы побежал, стремясь как можно быстрее достигнуть Борисоглебского, а там скрыться в каком-нибудь подъезде, подвале, люке, забиться в такой угол, где его никто не отыщет.
Если бы он мог видеть то, что происходило у фонтана на Собачьей площадке во время и после его бегства, его взору явилась бы следующая картина.
Мужчина в темном пиджаке быстро встает и всматривается в бегущего:
— Черт возьми, кто это? Откуда он взялся? Он подслушивал нас?
Девушка с опущенной головой отвечает:
— Это Лапшин. Не пойму, как он мог здесь оказаться.
— Что значит «не пойму»? Он следил за тобой? Что-то заподозрил? — мужчина с крика перешел на рев.
— Мне почем знать?
— Вот дура, дура, дура! — взревел сотрудник МГБ. — Идиотка!..
Майскую тишину Москвы разрезал звук пощечины. Девушка пискнула и схватилась за щеку.
1970
В начале зимних каникул 1970 года университетское профсоюзное начальство поручило Светлане свозить на экскурсию во Владимир группу первокурсников.
Ехать предстояло на автобусе по заснеженному Подмосковью, а потом по Владимирской области. Воодушевление студентов, только что сдавших первую университетскую сессию и наслаждавшихся жизнью с еще ничем не омраченным упоением ранней юности, передалось и преподавательнице. Она вела себя почти так же беззаботно, как в свои студенческие годы. Хотя время тогда было совсем другое. Более строгое и более скудное. Когда она училась в пединституте, только что отменили продовольственные карточки, и люди привыкали к тому, что могут питаться не по установленным нормам потребления. Это была главная радость. Большего, казалось, и не надо. Хорошо, что все это в прошлом и не вернется, наивно размышляла она.
Светлана Львовна выглядела моложе своих лет. В лице ее жила женская нерастраченность, привлекающая опытных и сильных мужчин. Она всегда тщательно ухаживала за собой, делала для лица маски из кефира с огурцами, пользовалась косметикой, которую муж в большом количестве привозил ей из заграничных командировок, а в последнее время по совету Дуняши мыла голову луком, что придавало ее темным, чуть вьющимся локонам особую шелковистость и блеск. В Москве в тот год выпало рекордное количество снега, и дворники, так же как и водители снегоуборочных машин, все чаще впадали в отчаяние. Первые скрипели лопатами по снегу с безнадежным усердием, а вторые просто хмурились и посылали небу настойчивые просьбы о прекращении осадков. Не оставались равнодушными к природным катаклизмам и обладатели личного транспорта, частенько вязнувшие на своих авто в рассыпчатых снежных засадах. Одного такого забуксовавшего бедолагу парни из их группы где-то уже на самой окраине Москвы вызволили из беды, с дружными подбадривающими криками растолкав его «жигуленок».
Как только выехали из города, обхватывавший дорогу лес поразил великолепной недвижной белизной и неслышно шелестящим покоем. Один из студентов, Юрий Охлябин, неизменно задававший Светлане Львовне после занятий кучу вопросов, взял с собой гитару. Первое время она одиноко лежала на заднем сиденье, а на одном из поворотов с низким и глухим звоном грохнулась, из-за чего Юра изменился в лице и кинулся ее поднимать. В итоге он уселся сзади, чтобы присматривать за ее сохранностью. Иногда любовно поглаживал ее корпус в темном чехле.
Когда бесконечная зимняя трасса взяла их автобус в тягучий загородный плен однообразной езды, Юра расчехлил инструмент и до самого Владимира развлекал однокурсников и преподавательницу песнями из репертуара входивших тогда в негласную моду каэспэшников. В этих мелодиях чуть фальшивая лихость сочеталась иногда с такой неподдельной грустью, что Светлана глубоко погрузилась в череду своих мыслей. Предчувствовала она тогда что-то? Бывало, что, вспоминая потом ту дорогу из Москвы во Владимир, она отвечала на этот вопрос положительно. Но, скорее всего, ничего такого не было.
Памяти свойственно создавать воронки многозначительности на чистой глади прошлого.
Густо заваленный снегом Владимир. Несуетное былинное величие. Город, где легко фантазировать о давнем прошлом.
Подсевший к ним на Соборной площади экскурсовод с продолговатой, как говорят, лошадиной физиономией, несмотря на то что явно не обладал отменной дикцией, придал экскурсии такую увлекательность, что неизвестно, от чего слушатели получили больше удовольствия: от его речи или от видов холодновато таинственной древности.
К вечеру студенты уже давным-давно расправились со взятыми с собой бутербродами и, конечно, проголодались. Решено было зайти в ближайший «Гастроном» и затариться продуктами в обратный путь. Владимирский продмаг разнообразием ассортимента не впечатлил. Ничего, что бы можно было взять с собой в дорогу, на прилавках не обнаружилось. Надо сказать, что на них вообще почти ничего не обнаружилось. Светлана навсегда запомнила тот стыд, который испытала тогда перед студентами. Почему так? — спрашивала себя она. Неужели живущие здесь люди не заслужили право купить то, что им хочется? Как тут выжить? Чем кормить детей? Или это случайность? Стечение обстоятельств? Просто день такой, когда ничего нет и завтра все наладится? В столице в те годы продукты первой необходимости не были жгучей проблемой, особенно в центре города, — чего-то не найдешь в одном магазине, докупишь в другом, а дефицитные товары Олег доставал через знакомых, которые у него, при его общительном и легком характере, имелись в огромном количестве. Да, она слышала про «колбасные поезда», про то, как жители российских городов совершают продовольственные набеги на Первопрестольную, но все это существовало вне ее и потому особо не тревожило.
Полноватая продавщица с белыми крашеными волосами, облокотившаяся всем своим массивным боком на дверь в подсобку, изрекла тоном, не лишенным глубокомысленной издевки:
— Москвичи? Зря заявились к нам! Это ж мы к вам за продуктами мотаемся. Тут ловить нечего. Могу предложить водку, макароны, спички… Ха-ха!
Нетрудно было заметить, что она уже приняла на грудь. Рядом с ней, на грязного цвета деревянном стеллаже, высились бутылки разного спиртного — от водки до дешевого плодово-ягодного вина. Светлану ни с того ни с сего потянуло выпить. Но при студентах об этом не могло быть и речи. Голодные первокурсники на глазах приуныли, поняв, что ничем разжиться тут не удастся, а голод придется терпеть до самой Москвы. И тут произошло нечто непоправимо ужасное: Юра Охлябин вдруг со всей высоты своего немалого роста рухнул на пол и забился в жутком припадке, когда дрожит все тело, а на губах выступает пена. Пока все осознавали, что произошло, к упавшему кинулся мужчина, неизвестно откуда взявшийся в магазине, и первым делом стал резко тянуть его челюсть вперед. Потом поднял глаза на замерших и раздраженно крикнул:
— Что стоите? «Скорую» вызывайте!
Пока «скорая» ехала, поклонник бардовской песни пришел в себя и ошарашенно вертел головой:
— Что со мной?
— Все будет хорошо. «Скорая» в пути. Не двигайся пока, — наперебой принялись успокаивать его сгрудившиеся над ним однокурсники.
— Поднимите его, посадите куда-нибудь, — по-хозяйски отдавал распоряжения незнакомец. — С тобой первый раз такое? — спаситель тревожно взглянул сквозь очки с удлиненными стеклами на того, кого он только что спас.
— Первый, — жалобно пролепетал Юра.
— Вы кто ему? — спросил мужчина у Светланы.
— Преподаватель. Мы здесь на экскурсии. Что с ним? А вы кто?
— С ним, по всей вероятности, эпилептический припадок, — ответил он тихо, чтобы никто, кроме Светланы, это не услышал. — А меня зовут Волдемар. Волдемар Саблин, врач-реаниматолог. Именно «Вол», без мягкого знака, мой отец эстонец…
Светлана обрадовалась, что перед ней врач. В то время в советских людях жила непоколебимая вера в профессии: раз врач — значит, вылечит…
Потом Света не раз спрашивала себя: когда выяснилось, что она, дожив до сорока лет, родив двоих детей, ни разу не испытывала того, что называют «снос головы»? В какой момент она поняла, что при виде этого худощавого мужчины в элегантных очках у нее все дрожит внутри от желания немедленной близости?
Когда приехала «скорая», Саблин настоял, чтобы больного отвезли в больницу, где он работал. Кажется, бригада полностью состояла из его добрых знакомых. Светлана за это время назначила из числа студентов старшего и отправила их в Москву. Ничего! На экскурсионном автобусе доедут до метро, а там не потеряются.
Все выглядели удрученно и подавленно.
Светлана решила для себя, что останется с Юрой столько, сколько будет необходимо. Нельзя его бросать!
Больница оказалась не очень далеко, и они с Волдемаром дошли до нее пешком минут за пятнадцать.
В широких коридорах пахло человеческим горем пополам с медикаментами. Туда-сюда сновали люди в халатах и шапочках с безучастными лицами.
После обследования и сдачи анализов юноше до утра предписали полный покой, и он вскоре уснул в палате, где еще шесть человек ожидали чего-то от жизни или от смерти. Саблин сказал, что теперь опасность миновала, но в Москве Юру необходимо показать специалистам.
Видя, что Светлана едва жива и ей надо отвлечься, Волдемар пригласил ее в свой крохотный кабинет выпить чаю.
Пока кипятильник нагревал воду в литровой эмалированной кружке, Светлана Храповицкая исподволь разглядывала нового знакомого.
— А зачем вы, если не секрет, так сильно тянули Юру за челюсть? — вдруг спросила она. — Могли же вывихнуть ее.
— Не вывихнул бы. Необходимо было освободить ему дыхательные пути. Эпилептики часто умирают оттого, что задыхаются. Покурить не хотите? — он вытащил кипятильник из розетки.
Света не курила, но почему-то приняла предложение. Случившееся что-то основательно перетряхнуло в ней, и она никак не могла вернуться обратно к себе, в свое ровное, «от сих до сих», существование, ничем всерьез не омрачаемое.
— У меня только папиросы, «Герцеговина Флор». Папиросы курить не так вредно, как сигареты. У них длинный воздушный фильтр, остужающий температуру. А при низкой температуре никотин не так разрушителен. — Волдемар через очки, не отрываясь смотрел на Светлану, вертевшую в руках спичечный коробок и не решавшуюся вытянуть из него спичку.
— Вы не курите. Зачем просите сигарету? — так строго со Светланой Храповицкой давно никто не разговаривал.
— Вы правы. Сама не знаю почему. Можно я все-таки попробую?
— Нельзя. — Волдемар говорил спокойно, но тоном, не терпящим возражений. — Лучше выпейте водки. Но немного. Вы сильно переволновались. Водка вас расслабит. Надеюсь, вы к ней не пристраститесь. Алкоголь в качестве антидепрессантов используют только алкоголики.
Мужчина встал, подошел к небольшому, негромко ухающему холодильнику в углу, достал чуть початую бутылку «Столичной» и две рюмки. Аккуратно разлил.
Светлана выпила залпом, горло обожгло, и она сразу же заела жгучую горечь черным сладковатым хлебом, который Волдемар перед этим нарезал толстыми кусками и положил в глубокую белую с синим ободком тарелку.
— «Бородинский» хлеб — лучшая закуска. Напоминает о великом русском поражении, обернувшемся в истории в великую победу. Но пораженье от победы ты сам не должен отличать.
— Вы любите Пастернака? — Светлана вскинула брови, будто узнала о чем-то невероятном.
— А что? Это удивительно? — Саблин как будто немного засмущался. — Нет. Не люблю. Но ценю. Не прощу ему, что он Сталина переводил… — он нахмурился, будто Пастернак был ему близким родственником, обманувшим доверие.
— Жалко Юру. — Светлане почему-то захотелось уйти от этого смурного разговора.
— Слава богу, приступ был не очень серьезный. Быстро закончился. Но эпилепсия — если это она — страшная штука. Дай бог, чтобы его ввели в длительную ремиссию.
— И что тогда?
— Тогда приступы не будут повторяться слишком часто. Все лучше. Придется смириться с болезнью.
Светлана вздохнула. Потерла виски. Водка уже устроилась в желудке и оттуда согревала и торопила кровь.
— Хорошо, что вы рядом оказались. А то неизвестно, чем бы все кончилось.
Когда они допили всю водку, доели весь хлеб и пересказали друг другу по половине своих жизней, Саблин вдруг заволновался:
— Послушайте, я что-то не сообразил. А где вы будете ночевать? Уже за полночь.
— А во сколько первый автобус в Москву? — Света возвращалась к реальности.
— Еще не скоро. Вы же еще несколько часов назад не собирались ехать в Москву без Юры. Передумали?
Света смутилась. Конечно, за Юрой завтра приедут родители. А ее романтическая горячность скорее способ самооправдания, а не реальная помощь. Чем она поможет ему?
Теперь она выглядит перед новым знакомым как человек, легко отказывающийся от благородных планов. Неловко как-то выходит все… Скорее бы сесть на автобус и помчаться домой!
— Вижу, вы колеблетесь. Сами решайте, сколько нужно вам оставаться в городе. Но вы не выдержите без сна. Пойдемте ко мне! Я на раскладушке покемарю, а вас на кровать положу. Ваши родные, конечно, беспокоятся? Может, вам нужен телефон?
— Нет. Я позвонила из приемного отделения…
— Родителям мальчика, надеюсь, тоже? — он имел привычку излагать мысли так, будто все время спохватывался.
— Да. Успокоила их. Они умоляли подозвать его. Но я их уговорила до утра его не тормошить. Завтра с утра они выезжают сюда.
— Им не позавидуешь! Теперь их жизнь изменится. Ну, раз все сделано — пойдемте. Предупреждаю сразу: телефона у меня нет. Но душ и чистое белье — к вашим услугам.
— А это удобно? — В Свете никогда не умирала москвичка из интеллигентной семьи.
— Да бросьте вы! — Волдемар засмеялся. — Было бы неудобно, я бы вас не пригласил. Если вы боитесь, что я посягну на вашу честь, скажите сразу. Я буду знать, как себя вести. Если вас интересует, один ли я живу, то я вам отвечу: один.
Света поднялась. Саблин галантно помог ей одеться.
Они пошли не торопясь, будто прогуливаясь, не тяготясь ни холодом, ни усталостью. От Саблина исходил особый покой, тот покой, что делает женщину счастливой и беззаботной.
Алкоголь обострил обоняние Светланы, и она в пустом ночном городе, похожем на давно не использующиеся декорации, впитывала снежную молочную чистоту всеми легкими так жадно, будто до этого никогда не дышала свежим воздухом. Саблин громко и гулко читал ей стихи, увлекая в какой-то параллельный мир:
Пусть каналии рвут камелии,
И в канаве мы переспим.
Наши песенки не допели мы —
Из Лефортова прохрипим.
Хочешь хохмочку — пью до одури,
Пару стопочек мне налей —
Русь в семнадцатом черту продали
За уродливый мавзолей.
Волдемар пребывал в некоем сомнамбулическом упоении, почти прокрикивая эту махровую антисоветчину. А Светлане было совсем нестрашно, хотя, пребывай она в своем обычном состоянии, она бы точно решила, что их немедленно арестуют появившиеся откуда ни возьмись милиционеры. Наверное, это его собственные стихи, с нарастающим восторгом думала преподавательница кафедры иностранных языков МГУ. Какой он необычный человек! Спокойный, надежный, но и опасный, конечно, притягательно опасный. Мысли ее сейчас походили на сотни воинов, бесконечно штурмующих какую-то старинную крепость, почти вертикально залезая на ее стены. А Саблин продолжал неистовствовать:
Только дудочки, бесы властные,
Нас, юродивых, не возьмешь,
Мы не белые, но не красные —
Нас салютами не собьешь.
С толку, стало быть… Сталин — отче ваш.
Эх, по матери ваших бать.
Старой песенкой бросьте потчевать —
Нас приходится принимать.
— Вам понравилось? — наконец успокоившись, спросил новоявленный ночной чтец.
— Вы антисоветчик? — Светлана повернулась к нему и остановилась.
Он прошел немного дальше и тоже развернулся к ней.
— Хотите на меня донести? — он снял очки и начал зачем-то протирать стекла перчатками. Без очков его лицо выглядело беззащитным.
— Не сегодня. Мне же надо у вас переночевать.
Через секунду оба заливисто хохотали.
Потом Саблин рассказал Свете, что это строки Вадима Делоне, одного из лучших русских поэтов, который сейчас сидит в тюрьме за участие в демонстрации против ввода советских войск в Чехословакию. Далее он поведал о том, что военная операция против Пражской весны — грандиозное преступление и что даже некоторые лидеры соцстран в шоке до сих пор от такого вероломства.
Саблин был постоянным слушателем «Голоса Америки».
Света слушала все это затаив дыхание. В ее прежнем мире на такие темы не разговаривали. По крайней мере, при ней.
Раскладушку Волдемару доставать не понадобилось. Все произошло так естественно и так понравилось обоим, что утро и он, и она встретили с уверенностью, что ближе друг друга у них никого нет.
Он больше не запрещал ей курить.
Три года Светлана прожила как в дыму. В сладком дыму беспредельной любви, который резко горчил при длинных вынужденных разлуках. Тяжелее всего давалось делить постель с мужем. А представлять Волдемара в момент скудной близости она не в силах была себя заставить. В те дни, когда не виделась с любимым, спасалась от тоски в детях.
Арсений делал фантастические успехи. Даже в полной музыкантских отпрысков с комплексами гениев ЦМШ он выделялся на общем фоне.
Когда весной 1971 года мама заболела, Светлана была безутешна. И по-настоящему успокоить ее получилось только у Волдемара. Он находил такие слова, которые позволяли отвлечься от ужаса ситуации, поверить в то, что излечение возможно. Тогда диагноз «рак» звучал как абсолютный смертельный приговор. Но Саблин вселил в Свету надежду, а она в свою очередь заразила ею отца. Особенно вдохновила Свету история Волдемара о том, как смог преодолеть рак Александр Солженицын. (К тому времени он же втянул Свету в свое запретное поклонение автору «Одного дня Ивана Денисовича».) Кто знает, не благодаря ли этой фанатичной уверенности близких в благополучном исходе Мария Владимировна протянула до 1974-го, хотя врачи давали ей не больше полугода. Никто из семьи, естественно, не имел и понятия о том, что мать Светы лечит врач-онколог, однокурсник и друг любовника ее дочери.
Волдемар стал для Светланы единственным и неповторимым мужчиной на всю жизнь. Она часто убеждала его, что пойдет за ним куда угодно, пусть он только прикажет, но Саблин лишь улыбался, никогда не спрашивая ее, как она себе все это представляет, что станет с ее детьми, близкими, а один раз, незадолго до рокового дня, мрачновато пошутил, что на краю света бывают морозы минус пятьдесят и в таких условиях цветы любви могут завянуть. Она тогда рассердилась на него, придумала, что он ее разлюбил и много чего другого. Но виду не подала. При нем она не капризничала.
Кто же он был такой, врач-реаниматолог Волдемар Саблин? Чем он так привлек сорокалетнюю женщину, мнившую себя вполне счастливой до встречи с ним и понявшую лишь рядом с ним, что такое настоящее женское счастье?
Наверное, одно физическое желание не удержало бы Светлану около Саблина так долго. По всей вероятности, их отношения ограничились бы одним эпизодом, о котором женщина потом хоть и вспоминала бы с удовольствием, но по большей части жалела, стремясь всеми силами избыть сладко-тяжелую память греха. Но в ту первую их ночь во Владимире он погрузил ее в атмосферу, совсем отличную от той, где она уже долгие годы существовала. Жизнь Саблина была драгоценным покрывалом, сотканным из нищеты, гордости, отчаянной смелости, патологической независимости и неукротимой воли жить так, как хочется самому, а не как позволяют тебе другие.
После того как их тела убедились в необходимости друг друга, для Светланы изменилось все. Он потянул ее за собой. Она не захотела сопротивляться. Он был моложе на десять лет. Она не придала этому никакого значения…
Женщины в сорок лет уже боятся постареть, но еще не верят, что это возможно.
1948
Наблюдая мучения Александра Лапшина и то, как он их сносил, никто не назвал бы его трусом. Но сам он сейчас, в казенной, почти лишенной воздуха, обволакивающей темноте больничной палаты, никем иным себя не считал. Да, он решился на резекцию желудка, вопреки предостережению врачей о вполне вероятном летальном исходе. Но привел его под нож хирурга не отчаянный порыв в борьбе за жизнь, а удушающий, липкий, с мелкой тряской и крупным терзанием страх. Тот день, когда Людочка призналась ему, что крадет для него морфий, и когда он услышал разговор одной из его знакомых с сотрудником Госбезопасности, все его действия были продиктованы желанием спастись. Спастись уже не от тяжкой болезни, а от всего, что навалилось на него, придавило, зажало, не давало возможности ни вздохнуть, ни выдохнуть полной грудью. Мелькали обрывки фраз, уже непонятно кем сказанных, некрепкие болезненные сны переходили в явь, смешивались с ней, превращая все в причудливую мешанину из эмоций, которыми нельзя было управлять, от которых нельзя было скрыться, в затылке, в шее, в плечах формировались невидимые сгустки свинцовой тяжести. Несколько дней он не выходил из своей комнаты на Зеленоградской, ожидая стука в дверь, почти ничего не ел, только пил воду, слабея до такого обострения чувств, что мог слышать, как внутри него все таяло, исчезало, становилось огромным резонатором, а потом собрал все силы, добрался до поликлиники и умолил доктора, чтобы его срочно положили на операцию. Пациент был так худ, почти невесом, что врач внял его мольбам, оправдывая себя тем, что выхода, пожалуй, действительно больше нет, хоть это и не выход.
Во время резекции желудка, находясь на самом краю своего сознания, не в силах уже фиксировать, что с ним на самом деле происходит, он тем не менее находил силы убеждать себя, что следит за всеми маневрами хирурга внутри него. Мозг подавaл только один сигнал: надругательство.
А потом все стало болью. Сплошной, надрывающейся. Но крик уже не вырывался — в рот словно залили раскаленное железо. Тела он не чувствовал — мышцы опали, стерлись, перестали слушаться. Кто-то иной, тот, который сам по себе, сочинял музыку в его голове. Для кларнета и струнных.
Время передвигало гири. В какой-то момент он все же дал себе отчет: операция кончилась, и он, кажется, жив. Сознание прилетело назад и осторожно примостилось где-то неподалеку.
Мир заново формировался из хаоса.
Почему-то он теперь помнил, хотя был почти все время в беспамятстве, что на соседней койке весь вчерашний день стонал мужчина. Сестры называли его между собой майором. Сегодня, как только стемнело, его увезли в морг. Стоны прекратились. Лапшин мысленно простился с ним. Простился до скорой встречи на небесах. Думал: если уж такой сильный человек, военный, по всей видимости, фронтовик, не выдержал, куда уж мне.
Майор! Майор…
Еще до операции ему сказали, что у майора, как и у него, язва и ему также необходима резекция желудка.
Тот, кто вместо него писал все это время в нем нечто для кларнета и струнных, испарился. Длинная мелодия, состоящая из нескольких мотивов, — раздолье для будущего контрапункта. Она осталась. Она не забудется. Она скрепляет его изможденное тело.
Она как веревочная лестница, по которой он поднимется в спасительные небеса. Земные небеса.
Дверь открылась. Появилась санитарка. Подошла к нему, присмотрелась. поняв, что он не спит, осведомилась, не нужно ли ему чего. Ему ничего не было нужно.
За все дни, что он провел в больнице, его никто не навещал.
1985
В прихожей квартиры Норштейнов–Храповицких теснились четыре человека. Очень близких и очень далеких.
«Надо что-то предпринять, — решил Лев Семенович, — иначе Арсений просто уйдет».
Норштейн обратился к замершей Светлане тоном подчеркнуто бодрым:
— Ну что, мы так и будем Сенечку здесь, около двери, держать? В ногах-то правды нет. Да и согреться ему надо.
Светлана от голоса отца ожила, сделала два быстрых шага к гардеробу в прихожей, достала из него деревянную вешалку с металлическим крюком и протянула сыну. Потом снова застыла, наблюдая. Арсений снял дубленку, повесил ее на плечики, предварительно засунув в рукав шапку и шарф, потом присел на табуретку и стащил с себя сапоги. После этого поднял глаза, робко прищурился и, глядя в стену, сказал:
— У папы инфаркт. Он здесь. В Москве. На Ленинском. В Бакулевском институте. Его вызывали два дня назад в ЦК партии. Он поехал. Больше ничего не знаю. Известно только, что его обнаружили на Старой площади лежащим на тротуаре без сознания. До или после беседы это произошло, пока неясно. Вчера утром мне позвонили и сообщили, что у него инфаркт. Состояние тяжелое. Он пока еще в реанимации. Я сразу же на поезд и сюда. В Бакулевский. К нему, понятно, никого не пускают. Но сказали, что самое страшное позади. Хотя, возможно, они всем родственникам так говорят. Вот теперь решил к вам.
Пока говорил, ни разу не взглянул ни на кого из родных, а те не перебивали.
Увидев, что на его слова никто никак не среагировал, Арсений изменился в лице, все его мышцы напряглись, и он поднялся с табуретки, чуть помедлил, потом опять сел. Взял сапог и стал натягивать его.
— Ты что? — удивился Димка.
— Пойду, наверное. Все я вам рассказал… — голос старшего сына Храповицких дрогнул.
— Нет. Никаких «пойду». Я не пущу тебя. Отдохнешь — потом вместе поедем к отцу. — десятиклассник оказался тверже и мудрее взрослых.
— К нему все равно не пустят. — Арсений закончил с одним сапогом и взялся за второй.
— Вот и узнаем, когда разрешат его навещать. Как разрешат — навестим. Ты должен остаться с нами. Куда ты теперь пойдешь? — Димка сжал губы.
Арсений узнавал и не узнавал младшего брата. Последний раз они виделись, когда Димка заканчивал первый класс. После этого мальчуган никогда не встречался ни с братом, ни с отцом. И вот теперь рвется к папе в больницу. Все странно, все необъяснимо. Как и всегда в жизни. Они давно должны были стать ему с отцом чужими, а то и просто исчезнуть из сознания, из памяти, закрашенные темными штрихами обиды. Но не исчезли!
— Света, дай Сене что-нибудь на ноги! Дима, быстро поставь чайник. Человек замерз… — Лев Норштейн, как и многие интеллигенты, сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами, ненадолго терялся, но потом безоговорочно брал инициативу в свои руки и уже не отпускал.
Дима Храповицкий поспешил на кухню. Все было не так, но при этом как надо.
Как давно было надо. Но это предстоит еще осознать. Что тут правильно и что нет. И как все будет дальше. Что бы ни было, брат должен остаться здесь.
От волнения и возбуждения он что-то фальшиво напевал себе под нос.
Музыкальный слух, которым природа так щедро наделила старшего из братьев Храповицких, младшего обошел стороной. Но петь он любил. Правда, при деде стеснялся.
Многолетний, многослойный, крепчайший лед, сковавший эту семью, как реку, много лет назад, начал чуть слабеть и подтаивать. Старые льдины в их душах еще никуда не поплыли, но в некоторых местах уже чуть надломились и ослабли. Будет ли ледоход?
— Куда мне проходить? — Арсений ловко снял сапоги и пристроил их в глубь обувного ящика. Как хорошо, что не надо сейчас никуда идти! Сил совсем нет.
Мать в это время принесла из комнаты мягкие, из искусственного меха, тапочки с маленькими помпонами.
— Небось голодный? — Светлана Львовна не сомневалась, что сын ничего не ел сегодня.
— Есть немного. — Арсений осторожно улыбнулся. — Только чай в поезде выпил. В Москве утром не особо где поешь. Сама знаешь. У нас в Ленинграде хоть пирожковые и пышечные есть, которые рано открываются.
«У нас в Ленинграде» — как ножом по стеклу.
— Тогда проходи к гостиную. Мы там теперь завтракаем. Сейчас я все приготовлю.
Арсений прошел в самую дальнюю от двери комнату, которая в прошлом служила ему местом для занятий. Мебель все та же. Пианино по-прежнему гордо и независимо стояло у стены. Так гордо, что казалось, оно держит на себе стену и, если его отодвинуть, стена обрушится. Этот инструмент Храповицкие купили сразу после того, как Шостакович предположил в мальце, засмотревшемся в партитуру его 13-й симфонии, недюжинные музыкальные способности. Лев Семенович настоял на том, чтобы у Арсения имелось свое пианино. Два музыканта в доме — два инструмента.
Арсений отметил, что на крышке пианино совсем нет пыли. Рядом с инструментом, как и много лет назад, стоял невысокий книжный шкаф. В нем корешки музыкальных книг и учебников соседствовали с потрепанными корешками нот.
Столько лет он здесь не был! Но этот запах он не забывал никогда. Запах дома. Запах концентрированного счастья, зримого и все же невозможного. Он сел к пианино, взял несколько аккордов и тут же снял руки. К горлу что-то подкатило. Все как прежде.
И все же правильно ли он сделал, что приехал сюда? Готов ли он к этому? Одобрит ли отец, если выздоровеет, этот его поступок?
— А зачем Олега вызывали в ЦК? Неизвестно? — спросил Лев Семенович у Арсения, когда все сели за заново накрытый Светланой Львовной стол, сервированный теперь на четыре персоны. Из эмалированного носика чайника уютно шел пар.
— Он ничего не говорил мне. Сам был удивлен. Смеялся, что действительно началась перестройка, коль и на него внимание обратили. Он ведь уже два года заместитель директора ИРЛИ по науке. Вы, наверное, не знали? — у Арсения чуть дернулся левый глаз.
Когда вчера утром в его малюсенькой квартире на Лесном проспекте в Ленинграде раздался безжалостный звонок, а незнакомый голос в трубке попросил позвать его самого, он тут же напрягся в ожидании чего-то неприятного. Так оно и вышло.
Папа!!!
Неслучайно его всю ночь мучили кошмары и он проснулся ни свет ни заря.
Потревоженная Вика, его девушка, озиралась вокруг сонно и недовольно, но, разглядев, что он замер у тумбочки с телефонной трубкой в руках, всполошилась.
После того как Арсений поделился с ней свалившимся на него несчастьем, она первым делом сбегала на кухню, притащила валерьянки с пустырником и заставила Арсения выпить пахучий настой.
— Что делать? — Он взглянул на свою подругу с надеждой услышать нечто обнадеживающее.
— Как что? Ехать в Москву. И ждать, когда он придет в себя. Ему, скорее всего, потребуется твоя помощь. У нас в больницах уход — сам знаешь. Здорового уморят.
Вика и Арсений познакомились всего полгода назад. Через месяц после знакомства она переехала к нему, толком не спросив его согласия. Его согласие подразумевалось. В их отношениях многое подразумевалось. Он поначалу боялся, что она сбежит после того, как ей некуда будет деваться во время его пианистических занятий, но Вика, напротив, получала от них такое удовольствие, что просила обязательно заниматься при ней. Она усаживалась на тахте и замирала, следя за его руками, плечами, спиной, и представляла его на сцене какого-нибудь мирового зала. Однажды она поклялась себе, что заставит его преодолеть страх и вернуться к сольным выступлениям. Один раз девушка завела разговор об этом, но Арсений сразу же нервно пресек его.
Вчера Вика почти вытолкнула его из дома, причитая, что нельзя терять времени. Надо бежать на вокзал, за билетом в Москву.
Арсений больше всего любил Ленинград в такую пору, когда его мало кто мог выносить. Когда улицы и проулки заваливало снегом, который тут же начинал таять, медленно превращаясь в грязную кашу под ногами, когда дома шелестели накопившейся в них влагой, будто жаловались на то болотистое место, где им привелось бытовать, когда воздух накапливал в себе столько тумана, что все очертания смазывались, превращаясь в иллюзию, когда в квартирах почти не гасили свет и это создавало снаружи симфонию огней рядом с темным и пустым городским нутром. Что-то было во всем этом тягучее и привлекательное, какая-то сырая правда, очевидная победа вечного над сиюминутным, ощущение того, что с мирового холста соскребли все лишнее, наносное.
Всю прошедшую неделю Арсений наслаждался этой холодновато-слезной сыростью, ее естественностью и внутренней стройностью, но, когда он вышел из дома, чтобы отправиться за билетом в Москву, все поменялось: город словно закрылся от него, ощерился, показался ему враждебным и стремящимся уязвить.
В метро рядом с ним встал какой-то мужик, от которого пахло кисло и резко. Ни с того ни с сего в туннеле поезд остановился и мучительно долго никуда не двигался в диковатой для метрополитена тишине. Когда он наконец тронулся, несколько пассажиров едва удержали равновесие, один из них больно ударил Арсения портфелем по ноге, после чего приторно и неискренне извинился.
Уже выходя на станции «Площадь Восстания», он разволновался: вдруг билетов нет? Что тогда предпринимать?
Хотя билет купить удалось сравнительно быстро, волнение никуда не делось. Неизвестность рождала страх, залегающий комом в животе. Случись с отцом непоправимое, как он будет жить?
Сразу на Лесной, к Вике, к ее ровной энергии, к ее рассудительности и заботливости, к ее мягкости, к ее коленям, которые она подбирала к подбородку, когда сидела на диване, возвращаться почему-то не хотелось. Лучше отпустить себя в город, уступить ему право подсказывать. Надо ли сообщать о состоянии отца тем, кто остался за чертой, жирной и нескончаемой, которую много лет не удавалось ни обойти, ни перепрыгнуть, ни стереть?
И вот он шел по Невскому, шуршащему машинами, звенящему трамваями, шаркающему подошвами, хлопочущему обрывками фраз случайных разговоров. Шел собранно, глубоко вдыхая.
Витрины магазинов отражали зимнюю хмарь.
Обычно такие прогулки по городу бодрили его, но в этот раз ничего подобного не происходило. Ком не уменьшался. Ноги вдруг стали ныть, усталость саднила мышцы, настроение портилось окончательно.
Арсений свернул на Литейный, немного померз на остановке и сел в трамвай. Он останавливался на Лесном проспекте прямо рядом с его домом. Удобно!
Дома долго стоял под душем. Мягкая питерская вода так ничего и не смыла.
Все время до отъезда он проклинал себя, что не спросил у позвонившего утром телефон, по которому можно было бы справиться о самочувствии отца. Вика позвонила в справочную, ей продиктовали номер, но там, в далекой кардиологической Москве, никто не снимал трубку. Арсений попробовал послушать пластинку Скрябина в исполнении его любимого Cтанислава Нейгауза, но не мог сосредоточиться ни на одном такте.
В нем зарождались сотни траекторий, из которых ему предстояло выбрать одну. Или кому-то предстояло выбрать ее за него.
* * *
— А где твои вещи? — запоздало встрепенулась Светлана Львовна. — Ты же не так вот, без ничего, приехал?
— В камере хранения на Ленинградском вокзале. — Арсений не очень любил сладкое, но сейчас «Мишки на Севере», которые мать насыпала в вазочку, пришлись по вкусу.
— Почему ты там их оставил? — недоуменно и несколько наигранно поинтересовался Лев Семенович.
Что мог Арсений на это ответить? Что был не уверен, откроют ли ему? Что до последнего момента мялся и, уже будучи у подъезда, все еще подумывал развернуться и отправиться к своему приятелю по армейской службе в оркестре Военно-медицинской академии Петьке Севастьянову, которому позвонил вчера из Ленинграда и спросил, можно ли ему у него на несколько дней остановиться? Или что в нем до сих пор жива обида на мать за отца? Но сейчас ничего из этого говорить нельзя. Это все теперь лишнее.
— Неохота было тащиться с сумкой сначала в Бакулевский, потом к вам.
Все трое сочувственно закивали. Никто пока не собирался торопить события, ожидая, видимо, что все необходимое произойдет само собой.
Вчера Вика долго и рьяно уговаривала его обязательно зайти к матери и попробовать восстановить отношения. Она, как и многие девушки, прокладывающие себе дорогу по жизни без чьей-либо помощи, отличалась спокойной настойчивостью в достижении того, что полагала необходимым для себя и для других, и не считала нужным брать в расчет никакие иные резоны и точки зрения. Арсений в свое время поделился с ней своей семейной историей, которая вызвала у нее оторопь непонимания. Как можно разрушить такую семью? Вика наивно предположила, что на мать ее возлюбленного тогда, много лет назад, нашло затмение. И оно уж точно не навсегда! Давно надо было попробовать его преодолеть. Арсений пытался разубедить ее, говоря, что все намного сложнее, но девушка не внимала его доводам, поражаясь, что за столько лет никто ничего не сделал для того, чтобы помириться. И вот теперь, когда Олег Александрович Храповицкий в таком опасном состоянии, Арсению просто необходимо сообщить об этом московской части семьи. Вдруг они захотят позаботиться об Олеге Александровиче? А Арсений лишит их этого шанса. И вообще — не дай бог что! Перед бедой все ссоры должны забыться, отойти на второй план.
Арсения не просто было уговорить на то, в чем он сам еще сомневался. Перед самым уже отъездом они спорили так самозабвенно, что чуть было не поссорились всерьез. Но уже в дверях, после прощальных, чуть холодноватых объятий, он сказал ей, что, если не случится ничего непредвиденного, непременно заглянет к матери, деду и младшему брату.
Пока дошел до метро, сильно продрог. Ветер разгулялся c ленинградской остротой и безжалостностью.
Народу в вагоне на этот раз было мало. Пахло грязным полом и синтетикой.
На Московском вокзале около памятника Ленину сидели на полу молодые люди с рюкзаками. «Геологи, что ли, куда-то собрались?» — подумал почему-то Арсений.
Арсений приехал несколько раньше, до поезда оставался почти час. Ресторан еще работал, хотя у официанток был такой вид, будто каждый новый посетитель наносит им личное оскорбление.
Дома он никак не мог заставить себя толком поесть. Кусок не шел в горло. И теперь проголодался. В поезде наверняка, кроме чая, ничего не предложат, а вагон-ресторан, скорее всего, уже будет закрыт, рассудил Арсений.
Пока готовили заказанное им жаркое, он так сильно и нервно теребил и дергал бахрому на скатерти, что чуть не оторвал несколько ниток.
Жаркое не впечатлило. Типичный общепит. Все сегодня как-то не так. Не к добру это, не к добру, лезло в голову.
Да еще и когда он выходил из заведения, прямо перед его носом двое милиционеров в мрачноватого вида шинелях провели под руку какого-то алкаша, который отвратительно и грязно ругался.
Довольно частые за последние годы гастрольные поездки приучили его не реагировать на дорожные тяготы, но в этот раз в купе ему не спалось. Тревога за отца нарастала, он принялся вспоминать все известные ему случаи, когда люди после инфаркта восстанавливались и жили дальше припеваючи. Когда насчитал подобных историй достаточно, немного полегчало.
Зачем он обещал Вике, что зайдет туда, где вырос и откуда пришлось уехать не по доброй воле? Почему она вмешивается в это? Разве в силах она представить весь ужас и всю невозвратность случившегося много лет назад?
Или?..
Поездные колеса постукивали с пугающей неутомимостью. Лежать на боку было неудобно, — ныло плечо. Но на спине он почти никогда не засыпал.
Несколько лет назад он придумал прекрасный способ разнообразить свою жизнь. Видя привлекательную женщину, он сразу же искал в памяти какую-нибудь музыку, которая подходила бы ей больше всего. Если же знакомству суждено было развиться до чего-то увлекательного, то он в определенный момент выбрасывал этот козырь. От предложения услышать свой музыкальный портрет мало кто отказывался. Надо сказать, он не мухлевал. Не использовал расхожие, ко всякой почти молоденькой барышне подходящие мелодии. Всегда подбирал пьесу или фрагмент очень ответственно. И вовсе не всякий раз укладывал их потом в постель. Иногда ограничивался просто их восторгами. Сейчас ему вдруг стало стыдно за себя. Такой большой репертуар, фанатично наработанный в детстве и юности, теперь годится лишь для какой-то пошлости.
Пару лет назад, когда последний раз виделся в Москве с дедом и играл ему только что выученную до-мажорную сонату любимейшего старым Норштейном Мясковского, так расстроился из-за одного никак не выходившего, пустячного, в сущности, места, что дал сам себе зарок ничего нового больше не учить. И так уже в памяти все не удерживается. Новое вытесняет старое. Зачем? То, что не пускает его на сцену, сильнее его. Это наваждение. Как только он помыслит о сольном выступлении, представит себя выходящим на сцену, сразу видит падающую на пальцы крышку рояля, и пальцы непоправимо деревенеют, как все внутри. Это его проклятие. То, от чего он должен бежать. О чем обязан не думать. Но оно всегда неотвязно с ним.
Какая же все-таки сволочь эта консерваторская профессура из жюри, которая не дала ему играть тогда, на конкурсе, дальше первого тура, ссылаясь якобы на заботу о его здоровье! Он бы выдюжил. Действия обезболивающего хватило бы на всю программу. Он бы спасся.
Ведь дома в это время был ад. И никто не знал, чем все кончится. Бабушка умирала, дед как будто умирал вместе с ней, отец с матерью не разговаривали, не замечали друг друга, почти полностью уничтожив то, что люди называют «мы», а шестилетний Димка никак не мог понять, что происходит, и все спрашивал что-то то у отца, то у матери, то у деда с бабушкой, то у брата. И совсем не улыбался.
С консерваторией было покончено. Его педагоги предали его. С этим нельзя смириться. У него был шанс стать первым на том конкурсе Чайковского 1974 года. В итоге победил Андрей Гаврилов. Хороший музыкант. Но не лучше его. В знак протеста Арсений перешел из консерватории в Институт Гнесиных. Приняли его там чутко. Сразу нарекли гордостью кафедры. На первом зимнем экзамене он отыграл изумительно. Сломанные косточки на пальце хоть и срослись не совсем так, как надо, но это ни на йоту не сказалось на качестве исполнения. Он все чаще занимался не дома, а в институте по вечерам, спасаясь от того, что дома все разрушалось непоправимо. Через четыре года опять планировался конкурс Чайковского. А вдруг?.. Но во время отчетного концерта их класса в Большом зале института все изменилось. Перед самым выходом на сцену он испытал то, что потом стало его бедой, наваждением, клеймом на всей его жизни.
Видение падающей на пальцы крышки — и мгновенный ступор.
Невозможность, несовместимость, бессилие.
Ад!
Как ему было стыдно перед профессором Бошняковичем! Тот так надеялся на него! Так поддерживал! А теперь он, Арсений Храповицкий, концертмейстер Ленинградской филармонии. Всего лишь концертмейстер. Выступает с вокалистами. Востребован. Прилично зарабатывает. Когда аккомпанируешь, страх исчезает. Крышка не падает. Солист как бы защищает тебя. Вызывает огонь на себя. А аккомпаниатора словно и нет.
Милый дед! Он, конечно, еще верит, что все исправимо и что ему еще доведется услышать игру Арсения с большой сцены.
Давно не болтали с ним. Последний раз он сказал, что мать теперь вышла на пенсию и все время дома. А говорить они могли, только если в квартире на Огарева никого не было. Бедный дед! Ему-то за что все это? Может, повидаться только с ним? Как-нибудь выманить его из дома?
Эх, Димка вырос, наверное. Помнит ли он своего старшего брата? Он никогда не спрашивал об этом у деда.
Переворот на другой бок ничего не изменил. Вряд ли скоро удастся уснуть. А отец сейчас лежит на жесткой казенной койке, один, в какой-нибудь ужасной больничной одежде. Ему наверняка холодно. В сознании ли он?
Перед самой Москвой он куда-то провалился. И в этом темном провале было тяжело дышать, что-то цеплялось то за руки, то за ноги.
1948
Майор МГБ Аполлинарий Отпевалов очень любил жизнь. Кайфовал от нее. Но гедонизм его отличался избирательностью. Возможность влиять на судьбы людей, изменять их натуры, внедряться в их психику, играть их чувствами, давать и отнимать у них надежду давно уже стала для него обыденностью. Больше его заводило другое: он считал себя человеком исключительно удавшимся и каждым своим житейским движением любовался, иногда тайно, а то и явно. Он — из избранной касты. Тех, кто управляет. И никогда его не занесет в стан тех, кем помыкают, кто не более чем фигуры под руками и мозгами гроссмейстеров. Таких, как он.
Ему нравилось выходить из большого серого дома в начале Покровского бульвара, нравилось заходить в свой кабинет на Лубянке, нравилось быть душой компании сослуживцев и в то же время иметь их жен, нравилось слушать современную музыку и размышлять, что делать с композитором Лапшиным, оказавшимся не в том месте и не в то время, нравилось то, как скрипит ручка по бумаге, когда он пишет отчеты начальству, нравилось, как пахнут его жена и сын Вениамин, в этом году поступивший учиться на врача.
Но особенно ему нравилась та операция, которую он сейчас разрабатывал. Он полагал, что она может войти в историю спецслужб. Конечно, композитор немного спутал карты, но это легко исправимо. Среди музыкантов столько их людей, что они легко провернут с Лапшиным все, что им будет велено. А тот будет молчать. У него натура такая. Он вычислил, как ему казалось, его натуру. Таким легче терпеть и страдать, чем рискнуть что-то изменить. Ведь может быть хуже, уверяют они себя. И не только им может быть хуже. Это благородство? Или трусость? Интеллигенты на такие вопросы отвечать не любят. Хотя их никто особо и не спрашивает. Интеллигенты нужны для ассортимента.
Абакумов будет доволен. Все в его стиле. Главное только — все довести до конца самому. Никого не подключать. Операция строгой секретности.
Все исполнят свои роли. Он их им распишет до тонкостей. Но они будут считать, что действуют сами, исходя из якобы своих побуждений, желаний, рассуждений.
Композитор после операции выжил. Спрятаться в смерть у него не вышло. От органов не спрячешься. Может, оно и к лучшему. Его смерть сейчас ни к чему. Он пригодится.
Он любил жизнь. И ему нужны были живые. Про умерших, даже по его вине, он забывал сразу. Чтоб не мешали любить жизнь.
1985
Каждому из четверых сидящих за столом в гостиной на улице Огарева было что скрывать друг от друга. Светлане — свою давнюю, так много изменившую в ее жизни связь с Волдемаром Саблиным, Льву Семеновичу — не прекратившееся общение со старшим внуком и зятем, Димке — свой нарастающий страх оттого, что Арсений случайно встретится с Аглаей Динской, которая с девочек влюблена в него и за эти годы, очевидно, его не забыла, Арсению — знание того, что причина катастрофы их семьи вовсе не в том, что отец подписал то письмо против Сахарова и Солженицына.
Если бы сейчас с ними рядом сидел Олег Храповицкий, он, пожалуй, претендовал бы на титул того единственного, кому нечего таить.
Но он сейчас лежал после инфаркта в реанимации Бакулевского института. Без него семья не восстанавливалась. Не хватало последнего фрагмента пазла, дающего наконец возможность разглядеть, что задумывалось изобразить.
— Поди поспи. У тебя глаза красные. Я постелю тебе у себя… — сказала Светлана Львовна, глядя на совсем раскисшего старшего сына.
Арсений согласно кивнул, поскольку сон уже не мог больше ждать и наступал из темной своей глубины все грозней и настойчивей.
«У себя», как понял Арсений, означало в бывшей супружеской спальне мужа и жены Храповицких.
— Дать тебе пижаму?
— Спасибо. Не надо.
Как бы люди ни бегали от себя, сон все равно настигнет их.
Арсений заснул почти сразу же.
Оставшаяся бодрствовать троица принялась вполголоса обсуждать произошедшее.
Часть третья
1948
Шура Лапшин не надеялся выжить. Не помышлял, что заслужит на смертном почти одре женщину своей жизни. Не мог представить, как он будет жить с третью желудка и много еще что. Но со всеми этими «не» он в итоге как-то свыкся. Но скажи ему кто, что 1949 год он соберется встречать у Людочки в Борисоглебском, с участием постоянных членов ее сборищ, он бы ужаснулся.
И тем не менее вечером 31 декабря 1948 года он шел по небрежно хрустящему снегу к хорошо знакомому дому в Борисоглебском переулке, рядом с ним семенил изгнанный, как и он сам, из консерватории за еврейское происхождение Шнеерович, а под руку его держала Танечка Кулисова, на которой он собирался в будущем году непременно жениться.
О том, что творится у Людочки Гудковой, Лапшин все это время узнавал от Тани, продолжавшей время от времени бывать у приятельницы. Она передавала ему от всех приветы, щебетала, что его очень ждут, что все рады его выздоровлению, что без него компания лишилась чего-то остро необходимого, но Шура все откладывал визит к давней знакомой, ссылаясь на слабость или еще на что-нибудь.
Таня особо и не настаивала. Не торопила Шуру. После пережитого в больнице, после путешествия на самый край, ему требовалась пауза, чтобы вернуть себе место в мире, который еще совсем недавно он собирался покинуть навсегда.
Да и их отношения переживали такую фазу, когда никто не был нужен. Таинство единения не терпит чужих глаз. Чужие глаза забирают у него нечто важное.
Их любовь началась, когда Шуринька под звучащую в голове собственную музыку для кларнета и струнных боролся со смертью. Однако борьба не сулила успеха. С каждым часом он слабел и отчаивался все больше. Силы иссякли, перед глазами все плавало в вязком и покалывающем тумане, к горлу ударами подкатывала кровь, с каждым ударом все выше и выше. Больничная койка причиняла боль при малейшей попытке повернуться. Он не способен был даже определить, какой идет день после операции: второй, третий, четвертый…
Все время билась одна мысль: надо как-то успеть сообщить, кто доносчица. Бояться за себя уже незачем. Все равно он умирает. Однако людей стоит уберечь. Ведь все, что они обсуждают за столом, о чем шутят, кого ругают, на кого намекают, становится известно органам. И органы, разумеется, делают выводы. Страшные зубодробительные выводы.
Но как это устроить? Попросить медсестру или кого-то из персонала передать записку Шнееровичу? А он уже, с его хитростью, найдет способ дать ей ход? Но это опасно. Записку, скорее всего, прочтут, а потом отнесут прямиком на Лубянку. Так он всех подставит.
Лубянка…
Почему-то вспомнил: то ли Шнеерович, то ли кто-то еще рассказывал ему, как Генрих Нейгауз, просидевший в начале войны на Лубянке почти год, потом шутил, что проводил время в отеле «Любянка», выговаривая «лю» на французский манер.
Эх! А сил все меньше. Если бы его еще кто-нибудь навестил. Он бы передал сигнал опасности. Но, похоже, никто и не догадывается, что он в больнице. Он же никого не оповестил. Думал спрятаться. Какая все это была чушь!
Неотвязная эта дрема рано или поздно накроет его с головой, а удары крови в шею добьют его трепещущую жизнь.
Как-то нерешительно скрипнула дверь. Лапшин сквозь гнетущий морок отметил, что персонал обычно входит по-хозяйски, а нынешний вошедший почему-то деликатничает. Но поворачивать голову он не стал: слишком тяжело. Какая ему разница, кто там! Шуринька прикрыл глаза. Открыл только тогда, когда чье-то дыхание приблизилось к нему непривычно и необъяснимо близко.
Не сразу признал, кто перед ним. Не предполагал, что Таня Кулисова придет его навестить первой из всех знакомых. Их взгляды уткнулись друг в друга и замерли. Наверное, то были решающие секунды, привязавшие их навсегда к тому спасительному ощущению родства. Родства навсегда.
Таня, как выяснилось, проявила недюжинное упорство в его розысках. Все это время она жгуче беспокоилась о нем. Причиной этого беспокойства явилось то, что ее обескуражили его глаза в недавний вечер у Гудковой, когда он ушел необычно рано. Какая-то в них была горечь и при этом пустота, словно из взгляда что-то вылетело главное. Этот его растерянный и будто молящий о помощи взгляд преследовал ее все эти дни. И в конце концов заставил ее поехать на Зеленоградскую.
Долго стучала в дверь, звала его, но никто не открыл. Она расспросила соседей, нашла адрес квартирной хозяйки, отправилась к ней с расспросами, та толком ничего прояснить не могла, но вспомнила, что однажды, когда она заходила к Лапшину за оплатой, у него был врач. Звали врача Петр Васильевич. В ближайшей к жилищу Лапшина поликлинике врач по имени Петр Васильевич нашелся быстро. Он долго и подозрительно расспрашивал Таню, кем ей Лапшин приходится. Таня сумела его подозрения рассеять, объяснив, что она просто друг. Петр Васильевич направил ее в больницу, где лежал Шура, вялым тоном сообщив, что решение об операции пациент принял сам и он никакой ответственности за это не несет. Но уж если тамошний хирург осмелился оперировать, значит, шанс на благополучный исход есть.
И вот она здесь. И она ощущает себя необходимой другому человеку. Может быть, впервые в жизни по-настоящему.
Она пробыла в больнице до вечера. Преобразила пространство вокруг него. Напитала воздух невидимым целебным эликсиром.
Она вступила в схватку с его болезнью.
Смерть предпочла отступить.
К следующему утру боль из резкой превратилась в давящую. Лечащий врач обрадовался этому, сказав, что налицо симптомы восстановления организма после операции.
Но Лапшин не сомневался, что такая перемена случилась из-за Танечки, а не по каким-либо физиологическим причинам. Девушка выдернула его из темноты, когда он уже почти полностью погрузился в нее.
С ее чудесным появлением его покинул страх, в нем поселилось нечто способное его пересилить, побуждающее не бежать от обстоятельств, а встречать их таковыми, какие они есть.
Через неделю после первого визита Таня принесла ему в палату нотную бумагу и карандаш, и он начал записывать первую часть кларнетового квинтета. То, что сочинялось в голове, не вполне понравилось, требовалась более тщательная проработка мотивов, и Шуринька увлекся.
Мысль о необходимости вывести на чистую воду осведомителя МГБ отпала сама собой.
Пусть все идет как идет. Ему теперь есть что терять.
Вскоре его выписали.
Таня переехала к нему на Зеленоградскую. Они стали парой без особых романтических обстоятельств, без признаний, ухаживаний и букетов. Их связывало нечто большее, чем просто влечение.
Немного оправившись, Лапшин собрался в консерваторию. Врач не рекомендовал спешить с дальними выездами из дома, но желтое здание на улице Герцена, окруженное полуколоннами, портиками, водосточными трубами, щебетом птиц и студентов, манило. Да и больничные листы и медсправки в бухгалтерию сдать бы надо.
Немного волновался. Хотел показать рукопись первой части квинтета тогдашнему ректору Шебалину. Шебалин благоволил ему. Опекал. И обладал безупречным вкусом и человеческим тактом.
Именно по его инициативе Лапшина взяли преподавать.
Но только переступив порог, Шуринька понял, что за время его болезни в консерватории многое изменилось. Сначала это понимание состояло из ощущений, из носящихся в воздухе догадок, а потом он узнал, что Виссариона Яковлевича на посту ректора сменил Александр Свешников. Надо бы спросить, что случилось. Но у кого? Шебалина в тот день в консерватории Лапшин не застал. На кафедре композиции ответили, что он заболел.
Лапшин расстроился. «Жаль, что Шебалин теперь не ректор», — горевал он.
Закружилась голова. Так нехорошо, всерьез закружилась, с дурнотой и перехватыванием дыхания.
Шуринька привалился к стене широкого консерваторского коридора, чтобы удержать равновесие и переждать приступ. Во что-то больно уперся лопатками. Не зря врачи остерегали его от излишней ретивости. Дурак он, что ослушался. Лапшин подождал, когда станет получше, и потом оторвался от стены. Обернувшись, увидел, что чуть не своротил консерваторскую информационную доску. Сразу же взялся торопливо ее поправлять. Почти механически пригляделся к ней.
На одной ее стороне висело расписание вступительных экзаменов, которые пару дней назад начались, на другой — одиноко серели столбцы газеты «Правда» с постановлением об опере Вано Мурадели «Великая дружба». Помимо Мурадели, в постановлении громились Шостакович, Прокофьев, любимый учитель Лапшина Мясковский. Как Лапшин помнил, повесили эту вырезку здесь еще в феврале. Повесили и повесили. Внутри консерватории постановление никто не торопился обсуждать.
Советская интеллигенция, в той части, что избежала ГУЛАГа, хотя и была на плохом счету у партии большевиков, давно реагировала на такие выходки власти смиренно, напяливая на себя маску тяжко провинившихся и немедленно готовых к исправлению. Некоторые даже не теряли чувства юмора. Так, Лапшин сам слышал, как Мясковский успокаивал уволенного из консерватории с негласной формулировкой «адвокат уродства» музыковеда Игоря Бэлзу следующим образом: «Вы, милейший Игорь, не печальтесь. Вы-то хоть адвокат, а мы уродство».
«Надо дойти до бухгалтерии. Отдать им документы из больницы и спросить, когда можно будет получить зарплату за два месяца, — вернул себя к действительности Шуринька. — Свешников — ректор. Как это дико! Чем он лучше Шебалина?»
Он сделал всего несколько шагов, как кто-то вцепился ему в руку. Незнакомая женщина, в темно-синем пиджаке и в серой юбке, с пепельными волосами и очень сухим, в еле заметных чешуйках лицом, неожиданно прикрикнула на него:
— Вы почему еще не на собрании? Ишь ты! Собрание идет, а он тут мечтает. Вы, вообще, что здесь прохлаждаетесь? Вы кто?
— Александр Лапшин, преподаватель инструментовки, музлитературы и чтения партитур. Сейчас болен, — смущенный таким напором, растерянно и неуклюже представился Шуринька.
— Болеете? Что-то на больного вы не похожи. Ну-ка, марш в партком! И чтоб тихо зашел, без шума. А то выведут. Болеет он! Все на собрании, а он болеет.
Лапшин, подчинившись грубой воле, побрел в противоположный конец коридора, всей кожей принимая злобный взгляд тетки, которая не собиралась спускать с него глаз, пока он не дойдет до указанного ей кабинета. Так тихо и спокойно, уговаривая себя не побежать, уходят люди от случайно встреченных агрессивных собак, каждую секунду ожидая, что за ними погонятся с зычным лаем и вцепятся в ногу или в руку.
В зале парткома Лапшин увидел много знакомых. Это его обрадовало. Правда, немного удивило, что сидят они в последних рядах, с одинаково понурым видом. И Шнеерович был здесь. Лапшин попытался привлечь его внимание, но, вспомнив угрозы тетки с сухим лицом, передумал и сел на свободное место.
Выступал какой-то человек с громким, на украинский манер выговором и прической, очень напоминающей прическу Гитлера на карикатурах Кукрыниксов.
Оратор половину своей речи ледяным тоном зачитывал разные перечни фамилий.
Списки неблагонадежных.
Тех, кто замечен был в пропаганде чуждых космополитических ценностей, в идолопоклонстве перед западной музыкой, в потворстве осужденным партией музыкальным формалистам. Одним словом, тех, с кем Московской государственной консерватории больше не по пути. В одном из зачитываемых списков Лапшин услыхал свою фамилию. Почему-то пронеслось в голове: что бы я сказал друзьям, если бы меня в эти списки не занесли? Потом ухнуло предчувствие катастрофы. На что теперь жить? Ведь он же с недавних пор не один.
С нескрываемым наслаждением выступающий доносил до аудитории то, как космополитически настроенная группа музыкантов пыталась внедрить в умы студенческой молодежи губительную буржуазную компоненту. Так и произнес: «губительную буржуазную компоненту».
«Эти опасные подлецы делали все, чтобы истребить музыкальные гены народного фольклора из советской музыкальной культуры. Но партия бдительно предугадала и раскрыла их коварные происки», — гремело с трибуны.
Лапшин продержался полчаса. Когда ускользнул, сборище еще продолжалось.
С трудом сдержался от рвоты. Мерзость неслыханная. Лучше б он не приходил сегодня сюда.
Улица Герцена распалилась от солнца до состояния враждебности ко всему живому. Потные прохожие жались к стенам домов в поисках хоть какой-то тени, но почти не находили ее.
Гадостность всего, что он только что услышал, налипла на его существо почти физически и мешала крови нормально циркулировать по венам и артериям. Поэтому она то приливала к голове, то вдруг отливала куда-то к ногам, так, что хотелось повалиться на асфальт и никогда больше не подниматься.
Какой-то неприятный, но уверенный в себе голос затараторил в нем: «Тебе нужен укол. Наверняка у Людмилы еще осталось немного морфия. наверняка осталось. Она тебя примет. И поможет!»
И он, ведомый этим голосом и желанием забыться, направился по улице Герцена вверх.
Если Люды нет дома, он подождет. Покараулит ее во дворе. Или ее отсутствие — спасение?
На Зеленоградской — Таня. Она поверила в тебя, а ты…
Давно не действующая, без креста церковь между улицей Герцена и только что названной именем артиста Василия Качалова Малой Никитской съедала солнечные лучи, не отражая их от купола.
Воздух тяжелел, горячел, давил.
Но когда Лапшин повернул с улицы Воровского в Борисоглебский, подул ветерок. И хоть он не был прохладным, Шуриньку он все же чуть отрезвил.
Ему нельзя к Людмиле. Там он не совладает с собой. Там вечно для него будет звучать голос, который он слышал на Собачьей площадке.
Но куда-то сейчас надо деться.
Внезапно его осенило: пойду к Льву Семеновичу. Он хороший человек. Работай он в консерватории, его бы сейчас, несомненно, тоже выгнали — за происхождение. Но он с величайшим скепсисом относится к любой службе.
Шуринька дошел до прохода к дому, где жили Норштейны, постоял немного у водосточной трубы, разглядел древнюю, частично ушедшую в землю тумбу, к которой, видимо, в старое время привязывали лошадей, и подивился, как он раньше ее тут не замечал. Посмотрел под ноги. Его тень сейчас была совсем маленькой.
Выкурил папиросу.
Бросил взгляд на другую сторону переулка. До Гудковой метров сто, не более. Дома она или на дежурстве? Удалось ей скрыть пропажу морфия из больницы? Вопросы не имели ответов, только усиливая смятение. Нет. Он туда не зайдет! Сейчас туда нет пути. Он выкинул папиросу и углубился внутрь двора.
А там кипела жизнь!
Нутряная.
Московская.
Голый по пояс хилый дед что-то мастерил и периодически матерился. Две женщины на натянутых между двумя небольшими сараями веревках развешивали белье. Два маленьких пацана пинали ногами сдутый мяч. У подъезда, сидя на табурете, с безразличным ко всему видом смолил мужик в тельняшке и с татуировками на кистях рук. Он недобро осмотрел Лапшина, но ничего не сказал.
Норштейн обрадовался Лапшину. Его женщины сегодня отсутствовали. Они уехали гостить на дачу к сослуживице Марии Владимировны.
Два композитора уселись около крошечного обеденного стола. Чай Лев Семенович заварил крепкий.
— Не бойтесь, Саша, в жару горячего чая. В Средней Азии его пьют именно когда очень жарко. Считается, что горячий чай быстрее утоляет жажду, чем холодное питье.
— Откуда вы знаете? Вы там бывали?
— Мне рассказывал Вайнберг. Он там был в эвакуации.
— Ясно. Интересно, — вздохнул Шура.
— Правда, они при этом сидят в халатах. Это обязательное условие. Халатов у меня, увы, нет. — Норштейн коротко посмеялся. — Есть еще сушки…
— От сушек воздержусь. У меня теперь от желудка только треть осталась. Для сушек она не предназначена. — Лапшин, обжигая губы, глотнул из чашки с широким верхом.
— Что вы говорите? Как же так? Это из-за вашей язвы?
— Меня прооперировали недавно. Другого выхода не было. Резекция желудка.
Лапшин посвятил товарища во все свои горести, начиная от срочной госпитализации и кончая муками жизни без двух третей желудка. Закончил он скорбный монолог сегодняшним консерваторским собранием, в результате которого он не только подвергся вместе с другими музыкантами публичному унижению, но и лишился средств к существованию.
Про больницу, операцию и последующие мучения Норштейн выслушал с кислым видом, который можно было истолковать как сочувствие или как досаду, что приходится внимать таким грустным речам и поневоле портить себе настроение. Но когда Лапшин дошел до консерваторских событий, Лев Семенович оживился, будто услышал нечто обнадеживающее:
— Вы не должны расстраиваться, Саша. Сейчас в таком положении многие. Слава богу, никого не арестовывают. Говорят, Хренников делает все, чтобы против композиторов не начались репрессии. Понимаю ваше отчаяние. Но мы что-нибудь придумаем. Главное сейчас — это ваше здоровье. Я обещаю, завтра зайду в Гнесинку и попробую застать там Елену Фабиановну. Посоветуюсь с ней. Она придумает, как вам помочь не остаться без куска хлеба. А сейчас пейте чай. У меня есть, кстати, водка. Вам, наверное, нельзя? А я, пожалуй, выпью…
Лапшин тоже выпил рюмку, хоть и не хотел. Засиделись они тогда допоздна. О чем только не говорили. Даже до Канта с Гегелем добрались.
Знай тогда Норштейн и Лапшин, что почти во всех комнатах дома в Борисоглебском стояли прослушивающие устройства (органы неусыпно следили за военным прокурором Хорошко), могли бы посмеяться, что в этом их разговоре «сидящие на ушах» далеко не все бы поняли.
Но после развенчания культа личности Сталина на эту тему никто не иронизировал. Как и до развенчания культа личности.
Лев Семенович не обманул. Он действительно походатайствовал перед Еленой Фабиановной. Но устроить Лапшина на работу в Гнесинку не получилось. Партия сурово следила за тем, чтобы провинившиеся в идолопоклонничестве перед Западом никуда больше не просочились. Тогда Михаил Гнесин, брат Елены Фабиановны, также включился в устройство судьбы Шуриньки. Помогала и пианистка Юдина, любившая музыку Лапшина и считавшая его гением. В итоге результат вышел смехотворным, но отчасти спасительным. Лапшина и Шнееровича пристроили в «Кинотеатр повторного фильма» — играть во время кинохроники. Оплачивалось это весьма сносно. Лапшин все время ждал, что его исключат из Союза композиторов, но пока его не трогали. Наоборот, Михаил Фабианович, пользующийся большим влиянием, включил его в число тех, кто должен был написать произведение о Сталине. Из этих произведений планировалось составить программу пленума Союза композиторов, посвященного юбилею великого вождя народов.
Шуринька постепенно привыкал к жизни «на треть желудка».
После того консерваторского собрания ни разу у него не возникло мысли зайти к Людочке и попросить ее поставить ему укол.
Морфий отпускал его.
Татьяна продолжала, хоть и намного реже, бывать у Гудковой в Борисоглебском. Там, кажется, все было по-прежнему. Только у Людочки появился друг-иностранец, вроде бы из французского посольства.
И трудно было в этом признаться, но неотступней всего его тревожило одно: вычислили ли его, убегающего, те, чей разговор он слышал на Собачьей площадке майским вечером 1948 года?
В начале декабря он сумел уверить себя, что если его тогда опознали, то он уже давно бы по каким-то признакам это почувствовал. Он был настолько беззащитен, что с ним могли бы сделать что угодно. Однако с ним ничего такого не происходило. Да, его вышибли из консерватории. Но это кампанейщина. Он попал под колеса этой машины вместе со всеми, за компанию, за происхождение. В этом не просматривалось никакого персонального акта против него.
Скорее всего, его приняли тогда за случайного прохожего. Ведь было темно. И бежал он быстро. Хорошо бы это так и было!
Но пленум Союза композиторов и последовавший за ним секретариат доказали, что рассчитывать на благополучный исход не приходится. Совершенно точно все это время на его жизнь кто-то искусно влиял, наблюдал за ним, направлял его, создавал для него те или иные ситуации, просто он этого не замечал. В страшных снах, граничащих с явью, Шуринька представлял себя бескрылой мухой, замершей на белой поверхности и знающей, что тот, кто занес над ней мухобойку, никуда не торопится.
Поначалу с посвященной Сталину «Приветственной кантатой» на стихи Сергея Острового все складывалось как нельзя лучше. Лапшин исполнял ее на фортепиано перед строгой комиссией Союза композиторов, и произведение получило высокую оценку. Однако потом все изменилось. В докладе на секретариате, проходившем по итогам пленума, Тихон Хренников сказал буквально следующее:
«В ряде случаев, как я уже отметил выше, мы можем говорить и о ПРЯМЫХ НЕУДАЧАХ, ТВОРЧЕСКИХ СРЫВАХ, ИМЕЮЩИХ ДЛЯ НАС ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. УМЕСТЕН ВОПРОС: КАКИМ ОБРАЗОМ ПОПАЛИ ТАКИЕ СОЧИНЕНИЯ В ПРОГРАММУ КОНЦЕРТОВ ПЛЕНУМА? Здесь я должен принять вину на секретариат и на себя лично за то, что в предварительном ознакомлении со множеством сочинений для отбора на пленум мы допустили ряд ошибок, не сумев в исполнении за фортепиано сделать правильную оценку качества некоторых произведений. Так, для исполнения на пленуме была отобрана “Приветственная кантата” композитора Лапшина, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ХОЛОДНОЕ И ЛОЖНОЕ ПО СВОИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ОБРАЗАМ, КРАЙНЕ СУМБУРНОЕ, ШУМНОЕ И БЕСПОМОЩНОЕ. Автор не отнесся с должной ответственностью к теме своего сочинения, не произвел предварительной глубокой работы над отбором музыкальных средств, над определением стиля сочинения, над организацией материала».
Слушая все это, Шуринька прозрел. Ясно, что такая перемена связана с чьим-то вмешательством, кто-то устами Хренникова показывает ему на его истинное место, кто-то дает ему сигнал, что его побег с Собачьей площадки не тайна и что ему придется теперь смириться с ощущением чьих-то рук на горле и молчать о том, что ему открылось в тот вечер, если хочет выжить.
Хорошо еще, Михаил Гнесин встал на его защиту. Иначе все могло бы дойти до исключения из Союза прямо на секретариате.
К Гнесиным обязаны были прислушиваться. Их семейству благоволил сам Иосиф Виссарионович.
И вот он принял приглашение прийти отмечать Новый год к Гудковой. Там он взглянет опасности прямо в глаза. И тогда посмотрим, кто отведет взгляд первым.
1985
Олег Александрович Храповицкий лежал ровно, сравнительно удобно и старался не двигаться. В затуманенном и еще медленном сознании свербило: если начну ворочаться, жгучая боль в центре груди вернется и задушит. Из ватного тумана всплывали неповоротливые мысли: наверное, Арсению уже сообщили? И он наверняка уже в Москве.
Чудесный, заботливый сын! Что бы он делал без него все эти последние годы? Арсений многим пожертвовал ради него. А что совершил для него он? Чем отплатил? Достаточно ли этого?
Да уж. Такие размышления не для третьего дня после инфаркта. Последнее, что он помнил из той жизни, которую болезнь, очевидно, теперь разделит надвое, это вид на Москву с небольшого холма, на котором располагалось несколько игривое в архитектурном смысле здание ЦК партии. Он оглядывал город, видел начало улицы Степана Разина. Там, чуть дальше, район, где снимал комнату в юности. До женитьбы. Думал: надо как-то успокоиться, привести в порядок мысли, разработать хоть какой-то план. Но не пришлось. Что-то неподъемное возникло в груди и потащило с неодолимой силой в надвигающуюся гулкую темноту.
Принимал его на Старой площади чиновник из сектора культуры ЦК, по фамилии Чижиков. Важный, полный, почти без шеи, с крылатым подбородком, с безвольными, как будто с трудом удерживающимися на лице губами. Разговор получился с недомолвками, не конкретный, но к чему-то неуловимо обязывающий Олега Александровича, при этом каждое слово Чижикова было липким, как растаявшая карамелька. Чижиков сперва довольно долго разглагольствовал о значимости апрельского пленума ЦК партии, о том, что советская культура должна чутко ответить на новые вызовы и что литературная наука не может остаться в стороне от всего этого. Олег Храповицкий изображал, что внимательно слушает. Он давно уже не верил в этот энтузиазм верхов, связанный с обновлением общества. Ему хватило своих восторгов от хрущевской «оттепели», которая кончилась не пойми чем. Как объяснить этому человеку, что литературная наука не откликается на вызовы, она изучает то, что уже есть и непреложно. И никак иначе. Неужели в ЦК собрались такие дилетанты? Такие спонтанно возникающие вопросы он уже много лет давил в себе, считая бессмысленными, а какой-либо протест против системы — ненужным и опасным. Впрочем, большой пользы он не видел и в прилежном встраивании в предлагаемые властью координаты. Однажды он совершил подобное, искренне поверив, что Сахаров и Солженицын — враги. И чем это кончилось? Если не в состоянии контролировать последствия своих действий, лучше вообще никуда лезть. Вот и теперь он имитировал вдумчивый интерес к тому, что излагал Чижиков.
«Не для этого же он меня вызывал? Не для того, чтобы в верности линии партии убеждать? Тут кроется что-то еще», — настороженно размышлял Олег Александрович. В какой-то момент он удивился: голос Чижикова звучит как-то не так — приглушенно и будто из капсулы, но это ощущение быстро прошло, и он не придал этому значения. Только ослабил вдруг начавший давить на шею галстук.
Наконец Чижиков перешел к самому главному. По мнению ЦК, директор ИРЛИ Андрей Иезуитов трактует советское литературоведение слишком догматично. Уже поступило достаточно много сигналов от сотрудников, вскрывающих случаи того, как Иезуитов подавляет в коллективе прогрессивные тенденции и, попросту говоря, не хочет перестраиваться.
Олегу Храповицкому потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Что за бред! Иезуитов кабинетный ученый, интеллигент. Что он там может давить? И какие еще сигналы? Кому это нужно? Но ЦК партии слишком серьезное место для сомнений частного лица.
— Что вы об этом думаете? — Чижиков неожиданно придал своему тону благорасположение, словно не призывал к ответу, а советовался.
Храповицкий разнервничался. Что он об этом думает? Ничего не думает. О чем думать? Какие-то чудеса! «Сигналы»…
Видя замешательство собеседника, Чижиков продолжил:
— В скором времени в одной из ленинградских газет может появиться письмо сотрудников института о необходимости, скажем так, свежего ветра в руководстве ИРЛИ.
При слове «письмо» Олег Александрович похолодел. Призрак ужасного 1973 года вылез из-за спины Чижикова, поднялся к потолку и оттуда, мерзко кривляясь, делал ученому какие-то знаки. Он с трудом выдавил из себя:
— Все, что вы говорите, для меня, честно говоря, в новинку. Мне надо все это проанализировать.
— Что ж вы, заместитель директора, а не видите того, что происходит у вас под носом.
— Я больше занимаюсь научной частью. На политику времени не хватает. — это была заведомая глупость, и Храповицкий знал это, но больше ничего в голову не шло. Не молчать же.
— Это плохо. Без политики у нас никуда. Политическая близорукость — почти преступление. Не забывайте об этом. — Чижиков что-то быстро записал ручкой на листе, который лежал перед ним. — Ну что же. Раз, как вы сами говорите, вам нужно время, чтобы все проанализировать, — мы вам это время дадим. Но учтите, его не так много. Вот вам мой прямой телефон. Звоните в любое время, если возникнут какие-то соображения.
Чижиков дал понять, что разговор окончен.
Некоторое время после того, как вышел из кабинета Чижикова, Храповицкий совершал все действия автоматически, не вдумываясь. Спустился на лифте, надел куртку, замотал горло шарфом, пристроил на голове шапку-ушанку, проверил, с ним ли его очки для чтения.
«Мне надо все это проанализировать». Какая пошлость! Чего уж тут анализировать! Все ясно до кристальной жути. В ЦК решили убрать Иезуитова и ищут для этого руки. Этими руками будет предложено стать ему. Андрей Николаевич! Добрейший, тонкий человек. Только два года, как назначен директором. До этого являлся замом. Именно на его место и пришел Храповицкий. Иезуитов явно симпатизировал ему, ценил как исследователя.
Что делать? Его обратный поезд еще не скоро. Вечером. Его влекло куда-то. Надо было выгулять, выходить, вытоптать что-то из себя — свою вялость, нерешительность и страх. Как, интересно, теперь выглядит дом, где он снимал квартиру в аспирантские годы?
Почему-то вспомнилось, как он в день похорон Сталина торопился в ИМЛИ, наивно полагая, что ему разрешат там поработать, и увидел на другой стороне улицы Светлану, насмешливо разглядывавшую его.
Но инфаркт не дал ему вспомнить все до конца. Подхватил и увел в темноту.
Когда он очнулся, то почему-то решил, что все еще в кабинете Чижикова. Только спустя минуту память все вернула.
Кто-то подергал его за руку. Он открыл глаза. Над ним нависла медсестра. Щеки ее пылали румянцем. Запах мороза смешивался с запахом табака.
— Олег Александрович! Вас переводят из реанимации в обычную палату. Как вы себя чувствуете? Надо перелечь на каталочку.
На вид ей было лет тридцать. Из-под шапочки выбивалась рыжая прядь.
— Давайте я вам помогу.
На каталку он переместился без всяких проблем, а вот когда везли по кафельному полу, сердце от частой тряски забило тревогу.
В палате ему что-то вкололи. Это принесло облегчение, и он задремал под неспешные разговоры других выздоравливающих мужчин.
1948–1949
Таня держала любимого под локоть. Шуринька от этого преисполнялся уверенностью, что все будет как надо. Ему непременно удастся уберечь от неприятностей эту девушку, что бы ни случилось с ним самим, на какие бы жестокие жернова его судьба ни бросила. Их близость, по большей части осторожная, нежная, но при этом до дрожи взаимная, делала их жизнь такой сногсшибательно полной, что все тяготы рядом с этим теряли значительность, уменьшались и не могли уже ни на что влиять.
Чем больше он размышлял о том, почему его до сих пор не ликвидировали или не арестовали, тем очевидней ему становилось, что этого уже не произойдет. Значит, он нужен им для чего-то еще. Возможно, это и не так плохо. Они имеют полную власть над всеми людьми в СССР. Никто не в силах противиться им. Они всегда правы, всегда считают на ход вперед. Он не в состоянии с ними бороться. Поэтому надо просто смириться и жить. И в этом — главная суть борьбы. Перестать бояться. Сочинять музыку. Сочиненную музыку никто у него не отнимет.
Шнеерович нес в пакете несколько бутылок шампанского и чудом где-то добытые в предпраздничной магазинной суете шоколадные конфеты.
Москва новогодне принарядилась окнами. Прихотливые гирлянды с лампочками, поблескивавшие за заиндевевшими стеклами, не давали ночи воцариться в городе с обычной вальяжностью.
В переулке было как никогда людно. Некоторые куда-то спешили, другие, наоборот, шли не торопясь, уже под хмельком, похохатывали, оживленно что-то обсуждали.
Небо не потемнело до конца и нависало над городом плотным серым одеялом. В некоторых местах по небосводу неспешно ползли чуть отличающиеся от него по цвету клубы дыма из теплоцентралей.
С нарастающим, а затем быстро затихшим шумом мимо Лапшина, Татьяны и Шнееровича проехали две «Победы».
Из одного окна в доме дореволюционной постройки вылетали разудалые звуки баяна.
В подъезде, на первом этаже, Таня и Шуринька долго отряхивали снег с сапог. Шнеерович наблюдал за этим не без любопытства, однако сам примеру друзей не последовал.
Большая квартира в преддверии Нового года избавлялась от своей коммунальности, превратившись в площадку для общего веселья. Конечно, единого стола не было, все накрывали в своих комнатах, но периодически заглядывали к соседям с просьбами: кому-то надо дать открывалку, кому-то одолжить немного соли, кому-то требовалась еще табуретка, кто-то просил стаканы, если есть лишние. Просившим наливали, они пили, все чокались и радовались.
Прежде чем дойти до Людмилиной комнаты, Шнеерович, Лапшин и Татьяна миновали людской затор в коридоре, где гости разных хозяев и хозяек смешались в возбужденной суете восклицаний, объятий, поцелуев, шептаний на ухо и подсовываний друг другу каких-то свертков и коробочек.
Лапшин никогда не догадывался, что в одной квартире одновременно может поместиться столько людей.
Когда Татьяна отворила дверь в комнату Людмилы и все увидели, что она пришла не одна, а с Шуринькой, раздались радостные восклицания и крики «браво!». Лапшина приветствовали как героя, вернувшегося с победой, а не как несчастного язвенника, лишившегося двух третей желудка.
Людочка подскочила к нему первой, крепко обняла, прикоснулась к его волосам, словно проверяя, на месте ли они, потом чуть ущипнула его за щеку:
— С наступающим! Как я рада, что Татьяна тебя все-таки вытащила! Ты неплохо выглядишь. Почему не приходил раньше? Мы о тебе все время вспоминали, тревожились за тебя. — Люда говорила так быстро, как говорят те, кто боятся, что их о чем-то спросят. За ней маячил незнакомый Лапшину кудрявый мужчина, большеглазый усач лет тридцати пяти, в явно заграничном пиджаке.
— Познакомься, это Франсуа. Мой… — Люда сделала намеренно игривую паузу, — друг… он работает во французском посольстве.
Друг протянул руку, не пожал, а скорее подержался за кисть Лапшина и улыбнулся с безукоризненной иноземной искренностью. С искренностью, холоднее которой только безжалостная улыбка слепого сочувствия на устах палача после только что свершившейся казни.
Потом все участники гудковских сборищ, которых он не видел с мая, по очереди подходили к нему, приобнимали, трогали осторожно, будто он экспонат. Вера Прозорова поцеловала его в щеку чересчур долго и с не вполне дружеской чувственностью.
Шуринька краем глаза взглянул на Татьяну, понял, что та все заметила, но вида не подает. Он нашел ее чуть потухший взгляд и подмигнул ей. Она в ответ чуть торопливо и покорно опустила веки: мол, все вижу и смеюсь над этим вместе с тобой.
Как только время подобралось к полуночи, а из радиоточки строго пробили кремлевские куранты, все громко закричали: «Ура! С Новым годом!» — и начали чокаться. Под чоканье слышно было, как из соседних комнат тоже кричали что-то праздничное, и один очень четкий голос, с командными интонациями, взвился выше и по тону резче остальных, как фагот над пиццикато струнных: «За Родину, за товарища Сталина!»
Сенин-Волгин, услышав это, скривился, а потом покрутил пальцем у виска. Шнеерович беззвучно прыснул в ответ на эту пантомиму, все остальные, кроме Татьяны, скромно заулыбались в кулачки. Лапшин расстроился. Тут ничего не изменилось. Беспечные фрондеры сами себя все ближе подводят к гибельному краю. Интересно, сколько встреч у осведомителя произошло с куратором после того вечера на Собачьей площадке?
Света Норштейн появилась минут через десять после того, как начался 1949 год. Передала всем привет от родителей и каждому вручила по большой коробке конфет в золотистой упаковке. Таких конфет Лапшин никогда не видывал. Подумал: где такие конфеты достают?
Лапшин подметил, что за эти полгода Света похорошела, налилась женственностью, стала вся как-то гибче и органичней — подростковая угловатость ушла совсем.
В эту ночь компания очень быстро напилась. Все шумели, смеялись, шутили, что-то доказывали или кому-то, или самим себе, без конца перебивали друг друга. Шнеерович сподобился на то, чтобы петь довоенные романсы, и сам себе аккомпанировал, отстукивая что-то пальцами по столу. В один момент Сенин-Волгин поднялся со стула во весь свой немаленький рост, подождал чего-то, нервно теребя воротник белой сорочки, пьяно и недоверчиво осмотрел всех, схватил, а потом со стуком опять поставил на стол наполненный до краев водкой стакан и сказал:
— Я сейчас буду читать свои стихи. Если кто-то вздумает мне мешать, пеняйте на себя.
Затем он возвел глаза почти к самому потолку, нашел какую-то невидимую точку, зафиксировал на ней взгляд, чуть прищурился и начал декламировать отчетливо, с выражением, почти переходя на пение:
Как-то ночью, в час террора, я читал впервые Мора,
чтоб «Утопии» незнанье мне не ставили в укор.
В скучном, длинном описанье я искал упоминанья
об арестах за блужданья в той стране, не знавшей ссор, —
потому что для блужданья никаких не надо ссор.
Но глубок ли Томас Мор?
Лапшина потрясли эти строки. Сенин-Волгин открылся ему с какой-то иной стороны. Наверное, не шибко приятное для Лапшина своеобразие Сенина-Волгина, его необдуманное и не очень умное резонерство мешали разглядеть в нем его настоящую личность. И вот она явилась. Явилась в стихах. В словах, в их сочетаниях, в тоне жила такая музыкальность, какой нельзя научиться. Стихотворение было длинным, крутящимся вокруг одного и того же, а потому завораживающим. После первого куплета в голову сама собой полезла мелодия — то ли песня, то ли романс, то ли акапельный хор на эти стихи. Ему даже захотелось встать и подпеть Сенину-Волгину, но он себя одернул. А потом его остро кольнуло жалобное, бесповоротное что-то. Он почти вздрогнул от мысли, как все они беззащитны перед этим временем, в котором живут те, кто доносит, те, кто на основании этих доносов калечит людям жизни, а то и просто жизнь у них отнимает. Хороший конец исключен. Никто не в силах противиться молоху, страшному, пожирающему всех монстру, созревающему в своих бесчисленных копиях в каждом из советских людей. Никто, подобно Спартаку, не поднимет восстания, никто не дерзнет изменить положение вещей, никто не попросит ни за кого. Машина всегда права, когда едет. Человек ее не догонит и не остановит. Она может прекратить свое движение только сама. Но это уже, как правило, ни на что не влияет. Все уже к тому времени кончено.
Доносчица сидела перед ним. Вычислила ли она его тогда, убегающего, или нет? Рассказала ли своему собеседнику о том, кто это тикает от них? Конечно, да. Это есть в ее глазах. В ее глазах убежденность: он, Александр Лапшин, никогда ее не выдаст. Потому что знает, что с ним за это будет. Может, прямо сейчас встать и всем все выложить?
Когда Сенин-Волгин закончил чтение, все разразились аплодисментами. Все, кроме Лапшина. Он схватил бутылку водки, плеснул себе больше половины стакана и залпом выпил. Хм… Оставалось только напиться. Если желудок, вернее, то, что от него осталось, не выдержит, так и черт с ним.
Татьяна никак не препятствовала тому, что ее жених хлестал водку, как алкоголик. Видимо, чутье подсказало, что ему сейчас это необходимо. Врач в больнице, после того как Шуриньку выписали, напутствовал ее:
— Последите, чтобы Александр Лазаревич не пил вина, коньяка или пива. Водку можно. Иногда даже и нужно. Жизнь сейчас такая.
После второго полстакана Лапшин подошел к Сенину-Волгину, севшему в кресло чуть поодаль от стола, вытянувшему ноги и наблюдавшему за всеми с еле заметной лукавой улыбкой превосходства, и попросил его дать ему прочитанное стихотворение. Сенин-Волгин вынул из кармана сложенный листок бумаги, протянул Шуриньке. Листок был вырван из разлинованной школьной тетрадки. Отдав стихи, поэт неожиданно смутился:
— Только, если не трудно, перепиши. И отдай. Можно не сегодня. Я, конечно, его помню наизусть. Но вдруг со мной случится что?
И опять внутри у Лапшина что-то дернулось. Лишь бы с ним ничего не случилось.
Пробежал по строчкам глазами:
Я вникал в уклад народа, в чьей стране мерзка свобода.
Вдруг как будто постучали… Кто так поздно? Что за вздор!
И в сомненье и печали я шептал: «То друг едва ли,
Всех друзей давно услали. Хорошо бы просто вор!»
И, в восторге от надежды, я сказал: «Войдите, вор!»
Кто-то каркнул: «Nеvеrmоrе!»
Пожалуй, если он будет читать такие стихи, то случится. Вероятно, палачи изобретательны и выжидательны. Весь антисоветский пыл Сенина-Волгина им определенно хорошо известен. Но он на свободе. В чем здесь загадка? Их со Шнееровичем хоть из консерватории вышибли. А Сенину-Волгину все нипочем. Медлят? Очередь не дошла?
Татьяна тихонько подошла к мужчинам:
— Шура, давай мне. Я перепишу. У меня хороший почерк.
Сенин-Волгин неожиданно рассердился:
— Пустое это все. Зачем тебе, Лапшин, мои стихи? Собираешься ораторию писать? Вряд ли ее исполнят когда-нибудь. Плюс не твой формат. Ты приветственную кантату вождю теперь строчишь. Разгромили ее? А что ж ты плохо старался?
— Я напишу ораторию на эти стихи, — жестко и нервно отпарировал Лапшин. — А кто ее исполнит, не так уж важно. Меня все равно исполнять сейчас никто не собирается. Я — не композитор. Мне в этом отказано. Я — тапер в кино. Вот как и Миша. — он махнул рукой в сторону Шнееровича.
Лапшин ни на секунду не усомнился, что про разнос кантаты Сенин-Волгин узнал от его друга, болтливого Михаила.
— Ладно, ладно. Ишь раскипятился. — Сенин-Волгин поднялся и примирительно взял Лапшина за запястье. — Давай предадимся празднованию нового, 1949 года. Кто знает, может, он станет счастливым? А почему, собственно говоря, нет?
Арсений
Арсений спал крепко, но недолго. Проснувшись, он прислушался к тому, что происходило в квартире. Но ничего не потревожило слух.
Дверь в бывшую родительскую спальню была плотно закрыта. Родственники, видимо, хотели, чтобы ему ничего не мешало почивать.
В детстве он любил перед сном прибегать в родительскую кровать, ложиться между отцом и матерью и натягивать одеяло на голову. В эти минуты все его существо пронизывало чувство особой защищенности и физического счастья. Его редко пускали, и от этого восторг только усиливался. Потом, много лет спустя, такие же штуки проделывал и Димка, пока отец не перебрался на диван в кухню.
День, когда мать в прихожей трясла газетой и орала на отца так, что все остальные домочадцы готовы были провалиться на месте, должен был быть для Арсения совсем иным. Этот день предшествовал 1 сентября 1973 года — первому его консерваторскому дню. С раннего утра он занимался, до остервенения играл гаммы и арпеджио. Завтра его ждет первая встреча в классе профессора Воздвиженского, его нового педагога по специальности. Нельзя ударить лицом в грязь. Надо показаться во всей технической мощи, во всей исполнительской тонкости и эмоциональности. И чтобы никаких случайностей.
Десять лет в ЦМШ под крылом любимейшей Анны Даниловны Артоболевской завершились. Арсений мечтал попасть в класс к своему кумиру, Станиславу Нейгаузу, но этому не суждено было случиться. Сын «великого Генриха» в тот год никого из первокурсников не взял. Да и Анна Даниловна убеждала Арсения, что ему будет лучше поступить в класс к Михаилу Оскаровичу Воздвиженскому.
Сначала услышал, как хлопнула входная дверь. Это мама, по своему обыкновению, вернулась после ежедневного похода за газетами к почтовому ящику на первом этаже. А потом все превратилось в истеричный крик:
— Что это? Как ты смел? Ты негодяй! Я презираю тебя!
Отец пытался что-то, видимо, объяснить, но слов было не разобрать.
Арсений поначалу замер, осознавая, что происходит, потом вскочил и выбежал в коридор, но супруги уже шумно переместились в спальню, откуда после новых криков матери раздался звук пощечины, сменившийся рыданиями.
Все сжалось и застыло внутри. В их доме до этого момента никто никогда никого не тронул и пальцем. Он протянул руку к двери, чтобы шагнуть в пекло родительской ссоры, но его окликнул дед:
— Арсений! Иди сюда.
Старый Норштейн тогда подумал, что это просто какая-то случайная размолвка между мужем и женой и Арсению нельзя позволять вмешиваться. Мало ли что случается между людьми! Вспышка гнева мелькнет, а потом ссоры как не бывало. И все быстро затянется, как неглубокий порез.
Тающее глиссандо струнных.
Он почти силой взял внука за руку и отвел обратно к инструменту. Пусть он лучше еще позанимается.
Но глиссандо не растаяло, а расширилось до всесильного хаоса.
Арсений Храповицкий никогда не задавался вопросом, кого больше любит — папу или маму? А кто из них его любит сильнее? Размышлять на эту тему казалось дикостью. В их семье все друг друга любят одинаково. И так будет всегда. Как же иначе!
После рождения Димки он совсем не страдал оттого, что теперь не все семейное внимание жадно концентрируется на нем. Он так был занят своими музыкальными занятиями, своей жизнью, что некоторое уменьшение родительской опеки воспринял как благо большей свободы. Этой свободой стало проникновение в него новых впечатлений, личных, почти взрослых, им самим найденных. В искусстве он открывал неисчерпаемость эмоций, от которых сперва робел, но потом не мог оторваться. Дедовские пластинки были почти все переслушаны, а некоторые и не по одному разу, с такой же тщательностью были изучены все имеющиеся дома живописные альбомы. А лет с четырнадцати его каждодневной добычей стали синие тома «Большой библиотеки поэта», стоявшие в их книжном шкафу на отдельной полке. От некоторых прочитанных строк он млел, кожей ощущая то, что ему скоро предстоит испытать что-то совсем иное, взрослое, всамделишное, когда не жизнь, обустроенная, отлаженная, выбирает что-то за тебя, а ты сам делаешь свой выбор и сам отвечаешь за него.
После того последнего августовского дня 1973 года, когда в газете «Правда» мать прочитала письмо деятелей культуры, осуждающее Сахарова и Солженицына, и обнаружила среди прочих подпись «О.А. Храповицкий», долгожданная взрослость кинулась на него исподтишка, сдавила горло, не давала дышать и не позволяла ни рассмотреть себя, ни от себя освободиться.
Он жил внутри какого-то кошмара, какие раньше существовали только в его снах. На все его вопросы никто из взрослых не хотел отвечать, делая вид, что вопросы так незначительны и неуместны, что не требуют ответа.
Он терзал мать, потом отца, но они, не разговаривавшие друг с другом, лицемерно убеждали его, что все в порядке. Когда он упрекал их в том, что они не общаются, оба замолкали и изображали на лицах такую скорбь, что у Арсения язык не поворачивался продолжать расспросы.
В квартире повсюду словно вырастали невидимые стены из льда, на которые натыкались в самых неожиданных местах.
Наконец дед, рассудив, что дальше тянуть невозможно, рассказал ему про письмо в газете «Правда» и про подпись отца. Арсений оторопел. Это из-за этого отец и мать поссорились так фатально? Но ведь Солженицын и Сахаров — действительно враги государства. Об этом и по телевизору говорят. Почему же мама так нервничает? Что за чушь?
Все это он выпалил деду, на что тот кашлянул и как-то тускло заметил:
— Все не так просто.
— Что не просто? Объясни! — настаивал Арсений.
Дед тогда взглянул на Арсения испуганно, так, как никогда не смотрел:
— Прошу тебя, ты особо не распространяйся об этом. Завтра бабушка из больницы возвращается. Не надо ее во все это впутывать…
— А как ее не впутывать? Она же заметит, что папа с мамой…
— Ну ты уж постарайся. Пойдем лучше, я послушаю, как у тебя Бетховен получается.
Воздвиженский сразу задал Арсению 32-ю сонату Бетховена, невероятно сложную и музыкально, и технически.
1985
Вчера, засыпая счастливым после телефонного разговора с Аглаей, Димка никак не предполагал, что все так обернется. Ничего более важного, чем предстоящее свидание, сегодня никак не могло произойти. Однако произошло. После стольких лет он увидел брата, а возможно, скоро увидит и отца. Когда Арсений заснул, наполнив их квартиру даже не храпом, а каким-то отчаянно протяжным свистом, мать взяла с этажерки толстенный телефонный справочник, нашла телефон Бакулевского института и позвонила туда. Димка и дед стояли с ней рядом и слушали разговор. Правда, о том, что ей отвечали, догадаться можно было только по лицу Светланы Львовны.
Наконец она положила трубку.
— Сегодня его переводят в общую палату. Завтра его можно будет навестить, — произнесла она устало.
— Ура! — одновременно, не сговариваясь, воскликнули Димка и Лев Семенович.
Светлана Львовна помрачнела, печально оглядела комнату, не останавливаясь взглядом ни на чем, потом спрятала глаза.
— Я не пойду, конечно. А вы сходите. Вместе с Арсением. Если, конечно, хотите. — слова она произносила с натужными паузами, словно для каждого требовалось какое-то особое обдумывание. Она не приходила в восторг оттого, что ее младший сын увидит своего отца. Но и противиться этому в такой ситуации считала неоправданным. Ему, в конце концов, не пять лет. Пусть сам решает, кто для него Олег.
Аглая попросила его в час дня подойти к памятнику Чайковскому возле консерватории. На утро ей назначили консультацию перед экзаменом, а потом она, с ее слов, совершенно свободна. В этом «совершенно свободна» Димке померещилось нечто чудесное, и пробудившаяся горячечная фантазия выдавала картины одну заманчивей другой.
Вчера перед сном он ни с того ни с сего озадачился, как ему преодолеть путь от дома до консерватории: по Неждановой или по Огарева?
Теперь ему было смешно оттого, какой чепухой он вчера занимался. Тоже мне! Будто от выбранного пути что-то зависело.
Он шел по Неждановой и топтал подошвами сапог снег с такой силой, словно мог продавить земную кору и скрыться под ней, как он скрывался, будучи маленьким, под родительским одеялом от всего того, что пугало своей непостижимостью. А вдруг отец не поправится? Вдруг он завтра его навестит, а потом не увидит никогда? И как со всем этим быть? А Арсений? Сколько он у них останется? И что они все вместе будут теперь делать? Радоваться ему всему происходящему или нет? Все с ног на голову.
Всю свою крохотную еще жизнь он прожил без брата и отца.
И ничего. Не умер. Они там, я здесь. Они старшие. Я младший.
Мысли роились над ним, как мошкара на юге роится в темноте около людских голов и плеч. И он не в состоянии был их отогнать. Мог только идти и терпеть.
Аглая и Димка знали друг друга, казалось, всю жизнь. Мало того, что они выросли в одном доме, они еще частенько оказывались вместе в Доме творчества композиторов в Рузе, куда в 80-е годы после закрытия пионерского лагеря при Союзе композиторов дети и внуки членов Союза вывозились в большом количестве для пополнения их легких запасами подмосковного кислорода. В Рузе все дети держались вместе, вне зависимости от возраста, шумной ватагой перемещались по огромной территории, придумывая всевозможные коллективные забавы.
Никаких особых взаимоотношений у них не было. Соседи и соседи! Димка музыке не учился, и это сразу выносило его за скобки жизни Аглаи. Но этой осенью все изменилось. Однажды он, возвращаясь из школы, увидел ее сидящей на скамейке на детской площадке напротив входа в Дом композиторов. Голова ее утонула в ладонях, плечи немного содрогались, волосы свисали как-то безвольно.
Неудобно пройти мимо: вдруг ей нужна помощь? Выяснилось, что помощь действительно нужна. Вернее, не помощь, а просто какой-то человек рядом, способный окликнуть ее и тем самым вывести из истерического ступора. На его вопрос: «Что с тобой, Аглая?» — она тогда просто подняла на него глаза, некоторое время глядела на него изумленно, словно не узнавая, потом шмыгнула носом и пролепетала:
— Ничего страшного!
Вдруг достала из кармана куртки сигареты и, никого не стыдясь, затянулась, к легкому ужасу Димки. Он никак не мог представить, что она курит.
— Ты домой? — ни с того ни с сего поинтересовалась девушка.
— Да. — Димка дышал дымом ее сигареты и почему-то находил это приятным.
— Ты бы отсел чуток. Сейчас табаком пропахнешь, и мать тебя взгреет.
— За что? Я же не курю, — удивился десятиклассник.
— Смешной ты. — Аглая улыбнулась, пленительно обозначая ямочки на щеках.
Они тогда засиделись. О чем болтали, не вспомнишь. Аглае явно хотелось с кем-то поговорить, чтобы отвлечься от чего-то (Димка потом не раз пытался выведать, из-за чего она так исступленно рыдала в тот день, но Аглая лукаво уходила от ответа: «много будешь знать, скоро состаришься» или: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали»), а младшему Храповицкому просто нравилось с ней разговаривать. Согнал их только неожиданно хлынувший из прохудившихся небесных карманов резкий, по-осеннему безжалостный и самодовольный дождь. Аглая побежала в свой подъезд, а Димка в свой. На прощание они энергично помахали друг другу.
Поднимаясь в вальяжно поскрипывающем лифте на свой этаж, Димка тогда внезапно всеми клетками, всем своим дыханием испытал немедленное желание увидеться с нею опять.
Скамейка, на которой они так мило провели время, вскоре стала «их скамейкой».
Из Димкиного окна детская площадка во дворе была видна как на ладони. Когда был поменьше, он обожал смотреть в окно, узнавать внизу знакомых, а также фантазировать, что происходит в дальних окнах таких же высоких домов. Особенно его забавляли бесшумные передвижения автомобилей, напоминающих с высоты игрушечные модели из его коллекции. Теперь он замечал, что Аглая, когда гуляет с собакой, отпускает лохматого и суетливо неуклюжего спаниеля побегать, а сама сидит на лавочке. Прежде он не придавал этому значения: домашние питомцы жили у многих в их доме, и потому все их хозяева так или иначе кучковались возле чахлой придомовой растительности. Отныне он, как только замечал из окна, что Аглая появилась в фонарном московском свете с поводком в руках и с бегущим рядом псом по кличке Пуся (а происходило это примерно в один и тот же вечерний час), стремительно одевался, говорил матери, что ему хочется подышать перед сном, и прилеплялся к консерваторской студентке, чему она вовсе не противилась: вдвоем ждать, пока Пуся сделает все свои собачьи дела, куда веселее, чем в одиночестве.
Аглая быстро разгадала Димкину хитрость со слежкой в окно.
— Я обещаю звонить тебе перед тем, как соберусь выходить, — сказав это однажды, она с того момента аккуратно выполняла обещанное.
Конечно, все знакомые Норштейнов знали об их семейной драме и, разумеется, с интеллигентской деликатностью никогда не касались запретной и больной темы. Но Аглая все же нарушила табу. Свой интерес к судьбе давно уже уехавшего из их дома Арсения она и не собиралась скрывать. Она рассказывала Диме, как его брат много лет назад, в Рузе, с ней, совсем девочкой, ни с того ни с сего завел разговор о симфониях Малера, будто она не ученица музыкальной школы на каникулах, а выпускница консерватории. И еще ей врезалось в память, как они с Арсением играли в большой теннис на небольшом полупрофессиональном корте и как он красиво подавал и вообще очень классно выглядел в футболке и шортах.
Димку первое время не задевали такие разговоры. Даже радовали. Всякая тема, занимавшая девушку и хоть как-то связанная с ним, их, по его убеждению, только сближала. Он жаловался Аглае, что страшно скучает по брату и подумывает на зимних каникулах вырваться в Ленинград, чтобы увидеть его и отца. Насчет последнего он, конечно, привирал. Нагонял на себя взрослость.
Никто же не мог предвидеть, что Арсений так неожиданно объявится.
Он не может не посвятить в это Аглаю! Она, разумеется, обрадуется. А если она, узнав, что Арсений здесь, попробует с ним увидеться? Ведь она как-то призналась ему со смехом, что долгое время была платонически влюблена в Арсения.
Не нравилось все это ему! Сильно и жгуче не нравилось. Томили предчувствия и страхи.
Но утаить приезд брата нельзя. Невозможно. Неизвестно, насколько он здесь задержится. И если Аглая случайно столкнется с ним, то сочтет его, Димку, мелким лгунишкой. Этого совсем не хочется. Почему все так?
С каждым шагом он шел медленней и вдавливал в землю снег со все большим скрипом.
Взглянул на часы.
До часа дня оставалось еще семь минут.
Чайковский на постаменте сидел с плечами, засыпанными снегом, в привычной странной позе: правая рука лежит на пюпитре, а левая то ли дирижирует, то ли отмахивается от кого-то. Смотрел каменный Петр Ильич аккурат на перекресток улиц Неждановой и Герцена, немного поверх голов.
Ветер усиливался, и редкие снежинки, до этого спускавшиеся на землю с меланхоличной грустью, задергались в беспомощном испуге.
Димка перешел на другую сторону улицы и остановился. Ветер доставал его через пальто, залезал под шапку, щипал за щеки и нос. Вчера, когда они договаривались по телефону о встрече, ничего не предвещало такой негуманной погоды. Вряд ли есть смысл тащить Аглаю гулять по такому холоду! А что же тогда делать? Никаких других вариантов своего первого настоящего свидания Димка не рассматривал. О кафе и речи быть не может. На это требовалось как минимум рубля три. Взять их школьнику было негде. Если он попросил бы у матери, то она пристала бы с расспросами, зачем ему деньги. Он пока намеревался хранить свое подлинное чувство к Аглае в тайне, и как можно дольше.
Аглая выпорхнула из дверей учебного корпуса консерватории. Увидев Димку, помахала ему. Он быстрыми шагами подошел к ней. Девушка просунула свою руку ему под локоть, и он, немного смутившись, почти автоматически повел ее вниз по улице, в сторону Красной площади. Рукой он чуть-чуть прижимал ее руку к своему боку, словно, если этого не делать, она может выскользнуть.
— А куда мы идем? — несмотря на холод, Аглая была без шапки, и снежинки отчаянно стремились удержаться на ее легких волосах. На плече, на тонком, с металлической пряжкой ремешке, у нее висела черная сумка на молнии, контрастировавшая со светлой короткой шубкой.
— Честно говоря, не знаю. — Димка остановился. — А куда ты хотела бы?
— Пойдем в «Космос». У меня кое-что от стипендии осталось.
Димка замер. Как унизительно! Она заранее предполагает, что у кавалера-школьника нет средств.
— Я не люблю сладкое, — соврал Димка.
— Ну там не только сладкое. — Аглая заговорщически подмигнула ему.
Кафе-мороженое «Космос», располагавшееся на другой от их дома стороне улицы Горького, — не последнее место в Москве. Димка слышал, что вечером туда трудно попасть — все столики заняты. Конечно, он бывал там, но только днем. Хотя и сейчас день! Но есть предчувствие, что этот поход будет сильно отличаться от предыдущих.
— Пойдем, пойдем. У меня сегодня настроение отличное. — Она потянула его за рукав. От нее сильно пахло сладковато-терпкими духами.
— А почему отличное?
— Да просто так…
До этого дня Димка никогда не пил шампанское и не целовался. Не сказать что он был чересчур правильным и стеснительным. Просто до Аглаи ему всерьез никто не нравился, а насчет спиртного мать однажды так сильно напугала его, что он относился к алкоголю как к абсолютному злу. Да и с весны этого года по телевизору только и твердили о борьбе с пьянством. В газетах только об этом и писали. По радио только об этом и вещали.
На входе в кафе молодых людей встретил швейцар. Витенька, как назвала его Аглая. Димку это неприятно кольнуло: с кем она тут бывает? Когда они разделись в гардеробе и поднялись на второй этаж, он спросил у нее о знакомстве со швейцаром. Аглая всплеснула руками:
— Это же Витенька! Кто же его не знает! У него еще сменщик есть. Иван Михалыч! Тот колоритен, я тебе скажу. Прям швейцар из фильмов.
Им принесли меню. Димка так оробел, что даже не стал его открывать.
— Что у тебя нового? — Аглая чувствовала Димкино стеснение, и оно ей явно не нравилось. Пожалуй, еще чуть-чуть — и он начнет ее раздражать своей детскостью.
— Да ничего особо.
Дима томился, не понимая, как себя вести. Их прежние разговоры текли сами собой. Но вот о чем они говорили? Он силился восстановить их, чтобы зацепиться хоть за что-то, обрести раскованность, какую испытывал с ней всегда раньше, но всплывали, как назло, только воспоминания Аглаи о его брате.
— Ты какой-то сам не свой сегодня. Что-то случилось? Может, зря я тебя сюда сегодня потащила? Хочешь, уйдем? Тебе тут не по себе?
— Нет-нет, что ты! Просто замерз немного, — выдумывал на ходу Дмитрий.
— Значит, тебе надо согреться.
Аглая повернула голову, и на этот ее знак сразу подскочил официант, весь какой-то сладкий, прилизанный и в то же время нагловaтый.
— Шампань коблер. Два!
«Что она творит? Ведь сейчас со всем этим строго. Борьба за трезвость», — ужаснулся про себя Дмитрий. Но протестовать не решился. Будь как будет.
Официант в это время настороженно повел головой в сторону юноши. Лицо его скептически скривилось. Но Аглая сразу успокоила его:
— Не волнуйся. Все будет в порядке.
— Чего он на меня так смотрел криво? — торопливо спросил Димка, когда халдей отошел от них.
— Впервые видит тебя. А потому боится спиртное тебе приносить. Сейчас с этим делом тяжко, сам понимаешь. Антиалкогольная кампания. Вдруг ты расклеишься, а потом родственники твои заяву напишут, что тебе алкоголь тут подавали? Да и вид у тебя не совсем взрослый. Не обижайся.
— Понятно.
Выходит, Аглаю тут не только знают, но и, похоже, слушаются, — делал выводы Дима.
— Шампань коблер — это вещь. — девушка вкусно причмокнула губами. — Не пожалеешь.
— Я никогда в жизни не пробовал спиртного. — Димка потупил глаза. Почему-то ему стыдно было в этом признаться.
— Ты такой славный. — Аглая протянула к нему руку и легонько коснулась подушечками пальцев его щеки.
У всех музыкантш кончики пальцев очень мягкие.
1949
Аполлинарий Отпевалов домой не торопился, хотя новогодняя ночь была уже в самом разгаре. Жена пригласила к ним на Новый год каких-то своих подруг, которых Отпевалов не то чтобы не любил, а мучительно презирал как пустых, лишенных воли и сопротивления, беспомощных существ, ходивших по земле только потому, что у органов до них еще не дошли руки. Сын отпросился праздновать в компании однокурсников на какой-то даче. Пусть! Потом надо будет вызнать у него, чем живут нынешние доблестные советские студенты, когда находятся в праздничной эйфории и легко убеждают себя, что у них вся жизнь впереди.
Он сидел за своим рабочим столом, в своем кабинете, громко, никого не стыдясь, прихлебывал чай, смотрел на портрет Сталина и улыбался.
Час назад он доложил Абакумову во всех деталях свою операцию. Тот поначалу удивленно поднимал брови, дивясь масштабности плана, потом откинулся на спинку кресла, закурил, взялся за телефон и вызвал своего ближайшего помощника. Нервно поморщился, когда тот вытянулся перед ним во фрунт, и приказал оказывать Отпевалову полное оперативное содействие по всем вопросам.
Теперь Отпевалов чувствовал себя победителем. От него, только от него одного зависит судьба этих интеллигентов, мнящих себя выше остальных, выше народа, только Абакумов и он в курсе всех нюансов и деталей той грандиозной игры, результат которой обещает быть ослепительным.
Cталин с портрета благословлял его на дальнейшее. На дальнейшую жизнь.
Иногда он задумывался, как советский народ гибок и податлив, как легко он позволил им слепить из себя то, что они лепили, как легко впустил в себя страх и стал этим страхом руководствоваться во всем. До войны этот страх проглотил в них все завоевания революции, всю свободу, которую принесли на штыках большевики, эсеры и прочие, всю ошеломительную сладкую ярость лозунга: «Кто был ничем, тот станет всем!» Никто никем не стал. Все превратились в мишень. И лишь война им была за счастье: на войне страх преодолевать легче, на войне бесстрашные люди — герои, после войны — враги советской власти. И, победив Гитлера, удавив его мощью своей территории, выставив его ненужным и опасным для мирового капитала, по крайней мере куда более опасным, чем Советы, отказавшиеся от идеи построения социализма на всем земном шаре, они оказались так благодушны, что не свергли того, кто бросил их на этот жертвенный алтарь. Свою победу они подарили своим палачам. Им, кто держал нити их жизней за оба конца и легко подтягивал их для собственных надобностей. Да еще пытаются угодить им, не понимая, что цена их жизней только в том, сколь успешно ими можно манипулировать. Они готовы совершать подвиги, поднимать промышленность и сельское хозяйство, писать симфонии и испытывать самолеты, лишь бы им разрешили соответствовать, разрешили считать, что они «стали всем». Хотя оставались по большому счету никем. Ничего не решали и ни на что не влияли. Решали и влияли они, те, к кому относил себя Аполлинарий Отпевалов. Высшая каста.
Чай остывал, и он кинул в стакан еще один кусок сахара. Сахар долго не растворялся.
1985
Из неудобного и навязчивого сна Олега Александровича вывел приятный мужской голос:
— Просыпайтесь, голубчик. Нам надо поговорить.
Олег Храповицкий открыл глаза. На стуле рядом c его кроватью устроился мужчина во врачебном халате, в чересчур на вид громоздких, почти квадратных очках и с уютной маленькой бородавкой на правой ноздре.
— Ну что же. Поздравляю вас с возвращением с того света. — человек в белом халате говорил как чеховский герой во время дачного чаепития.
— Неплохо бы ознакомиться с подробностями. — Олег Александрович сразу проникся симпатией к этому уютному, внушающему надежду на то, что все будет хорошо, эскулапу.
— Извольте. У вас был инфаркт. Этого достаточно? — доктор засмеялся. — Давайте знакомиться. Меня зовут Вениамин Аполлинарьевич. Фамилия моя Отпевалов. Не очень подходящая для врача, но другой нет.
Бывает так: людям необходимо что-то обсудить друг с другом, но между ними столь плотное, будто залитое бетоном, пространство, что каждое их слово бьется в него и отскакивает к ним обратно ушибленным и выхолощенным. А случается наоборот: между собеседниками образуется что-то наподобие воронки, которая принимает все слова и фразы, сцепляет их, создавая витиеватые цепочки взаимного понимания, вьющиеся по красивым и законченным смысловым траекториям.
Ни Храповицкий, ни Отпевалов не отличались повышенной коммуникабельностью, но, когда их пути пересеклись, каждый обнаружил в визави того, с кем давно хотел поговорить. И не потому, что Отпевалов увлекался литературой и втайне кропал многострочные стихотворения, и не в связи с тем, что Храповицкий с юности интересовался медициной и чуть не стал врачом; дело в том, что у советской интеллигенции к тому времени накопилось много невыговоренного, и на фоне общей разобщенности встреча с тем, кто существует с тобой в одной системе координат, воспринималась с азартом.
— Вам повезло. То, как вы упали, заметил дежурный милиционер около ЦК партии. Он сразу вызвал «скорую» по cпецсвязи и сообщил врачам, откуда вы вышли. И они оперативно привезли вас к нам… — Отпевалов поправил очки.
— Моему сыну сообщили о том, что со мной?
— Да. Конечно. Он уже в Москве…
— Когда его ко мне пустят?
— Завтра. Сейчас поставят капельницу. Вам теперь предстоит слушаться меня во всем. Какое-то время.
— Я согласен. Вы внушаете доверие.
— Никогда не слышал такого в свой адрес. — Отпевалов засмеялся. — Обычно это подразумевается само собой.
Пока медсестра, та самая розовощекая, рыжая и пахнущая табаком девица, пристраивала к вене Храповицкого иглу, Отпевалов наблюдал за всем этим, встав поодаль и скрестив руки на груди.
Конечно, врачебная этика, да и вообще весь распорядок поведения врачей не предполагает сидения с пациентом, а тем более с инфарктником в то время, когда ставят капельницу. Но Отпевалов почему-то все нарушил. Какая-то неодолимая сила тянула его к пациенту, и он устроился рядом с ним на стуле и приступил к расспросам. И расспросы эти вовсе не касались здоровья Олега Александровича. С ним врачу все было более-менее понятно. Кризис миновал. Предстояло долгое выздоровление. Но бывает, что оно и не затягивается. Если сосуды не изношены слишком.
Храповицкого обрадовало то, что врач не ушел. Этот доктор с бородавкой, опытный, примерно его возраста, непременно выведет его из лабиринтов болезни на свет. Сам его вид поднимал настроение. А хорошего настроения не бывает у безнадежно больных.
— Когда меня выпишут? — Храповицкий попытался принять удобное положение.
— Лежите спокойно, а то капельница выскочит. — Отпевалов обеспокоенно приподнялся, чтобы посмотреть, в порядке ли все с иглой в вене. — Трудно сказать. Поглядим, как пойдет выздоровление. Вы же молодой еще! Зачем вам тут задерживаться надолго?
Они разговаривали вполголоса, чтобы не тревожить дремавших соседей Храповицкого по палате, коих было двое. Изначально врач рассчитывал беседовать с пациентом не более получаса и засек время. Но беседа в итоге затянулась и длилась почти час.
Литературоведу не терпелось выяснить все подробности своего состояния, чтобы потом, основываясь на своих любительских познаниях в медицине, самому нарисовать себе перспективу своего выздоровления. Однако этот настойчивый интерес наталкивался на нежелание врача открывать больному все — Отпевалов полагал, что подобные сведения могут повредить выздоровлению и вызовут слишком сильное эмоциональное переживание. Он лишь всячески убеждал Храповицкого, что самое плохое позади и угроза жизни миновала. Сам же он все время переводил темы с медицинской на литературную, выведывал, на чем специализируется ученый, как он смотрит на современную литературу, кто из поэтов ему нравится. Храповицкий про себя удивлялся такому интересу, но отвечал весьма подробно. Сказал, что из поэтов ценит больше всего Левитанского.
Когда Отпевалову сообщили, что к ним угодил с инфарктом заместитель директора Пушкинского Дома, он порядком разволновался. За всю свою многолетнюю врачебную практику он никогда не лечил литератора. Видимо, они от сердечных болезней сразу умирают.
Неужели можно будет показать кому-то свои стихи и получить наконец профессиональную оценку? Хотя сейчас рано об этом даже помышлять. Сейчас пациенту точно не до его стихов. Но вдруг установится контакт? Случалось, что с некоторыми своими больными он доходил до полной почти откровенности. Восстановление после сердечных кризисов требовало доверия к врачу больше недели в иных случаях. Ведь выздоравливающим предстояло пересмотреть весь свой образ жизни. А без регулярных консультаций специалиста это подчас дается с большим трудом. Может, и здесь что-то подобное получится? Надо попробовать.
В этих размышлениях опытного врача мальчишеский восторг неофита и желание, чтобы твоим творчеством восхитились, пересиливали не только врачебную этику, но и даже больничный распорядок, строго обязательный для всех. Он никогда бы не решился показать свои тексты кому-то из профессионалов: боялся сухой вежливости, в которой будут закутаны насмешки. Но тот, кого лечишь, — это другое.
Если бы кто-то из двух спящих сердечников, делящих с Храповицким больничную палату, проснулся, то подивился бы диковинному тихому разговору врача с больным. Но этого не произошло.
— Не сердитесь за хлопоты, что мы вам доставляем, — попросил Отпевалов, осознав, что дальнейший разговор о литературе чересчур утомляет Олега Александровича, — но думаю, что вы быстрее восстановитесь в отдельной палате. — доктор улыбнулся почти торжествующе. — В самое ближайшее время вас туда переведут. Я сейчас дам такое распоряжение.
Прощаясь, Отпевалов сообщил, что о его здоровье еще справлялась какая-то женщина.
— Кто же это? — удивился Олег Александрович.
— Представилась Светланой Львовной. Более ничего не скажу. Не в курсе. Мне дежурная сестра передала.
Храповицкий вздрогнул, будто по всему его телу прошел разряд неведомого тока.
1949
Лапшин в ту новогоднюю ночь напился едва ли не впервые в жизни. Напился до потери себя, до дурковатой смелости, до бессмысленных, сбивчивых откровений ни о чем. Возможно, он так подсознательно готовил себя к тому, чтобы все же рассекретить доносчицу. Но даже такой дозы алкоголя ему не хватило, чтобы совершить этот самоубийственный шаг.
Надо сказать, что в ту ночь у Гудковой каждый был пьян по-своему.
Сенин-Волгин, обычно едкий, не упускающий случая кого-нибудь поддеть или указать кому-нибудь на его несовершенство, от выпитого не заводился, как обычно, а мрачнел, погружался в себя, на лице его отображалась безнадежная тоска. Танечка Кулисова, наблюдая, как напивается ее возлюбленный, тоже позволила себе пару рюмок и почувствовала себя как-то странно: не пьяной, но вдруг потерявшей внутреннюю твердость, готовой уступать всем и каждому, и то, что Лапшин глотает водку как воду, ее перестало пугать. Франсуа, друг и, по всей видимости, жених хозяйки, сначала все время обнимал Людочку за плечи, держал ее за руку, а потом уселся во главе стола, как кукла на самоваре, и время от времени задремывал, иногда смешно просыпаясь и непонимающе водя глазами туда-сюда. Света Норштейн пунцово раскраснелась, ее черные густые волосы растрепались, будто в комнате дул сильный ветер, она все время затевала с кем-то какой-то специальный разговор, но ее темы никого не интересовали. В конце концов она надулась, отнесла свой стул в угол комнаты и села, уплетая за обе щеки испеченный хозяйкой яблочный пирог.
Шнеерович и Генриетта Платова вдруг воспылали друг к другу симпатией. Общались только вдвоем, и чем дальше утекала ночь, тем чаще они выходили вместе покурить. Во дворе за сараем они целовались с каждым разом все жарче и жарче, а Михаил все больше позволял своим рукам под накинутым на молодое тело девушки полушубком.
Вера Прозорова, как всегда, красовалась, что-то с увлечением рассказывала о своих друзьях Рихтере, Пастернаке, о муже ее тети Генрихе Нейгаузе, о том, как она недавно была в Переделкине у Пастернаков и как там все по-другому, не так, как везде. То, что ее не очень внимательно слушали, не сбивало ее с толку. Она вещала с неоскудевающим энтузиазмом. Уже под утро в комнату к Гудковым ворвался пьяный сосед-инвалид и покусился на то, чтобы поцеловать Прозорову в губы. Хама выталкивали всей компанией.
Он кланялся и извинялся.
Как только загрохотали по Москве трамваи, вернулись на маршруты троллейбусы и автобусы, загудели поезда метро и зашипели электрички, гости разошлись.
В таком составе эта компания собиралась в Борисоглебском в последний раз.
Часть четвертая
Арсений
Ленинград для Арсения в первые месяцы их с отцом отдельной от всей семьи жизни обернулся катастрофой. Его удручало буквально все. Особенно огромная, какая-то нежилая и отталкивающая квартира бабушки и дедушки по отцовской линии, недавно покинувших этот мир. Каждая вещь в ней словно говорила: здесь жили люди, а потом умерли. Отец до последнего дня убеждал Арсения не переезжать с ним в Ленинград. Его-то позвали на работу в Пушкинский Дом, с ним все в порядке, а как же Арсений бросит учебу в Гнесинском институте? Но решение сына не подлежало пересмотру. Отца одного он не оставит.
Во время зимних студенческих каникул 1975 года Олег и Арсений Храповицкие перебрались в Питер. Позади у них было полтора года ада. Впереди — неизвестность. Пока ад нарастал, крохотная надежда на то, что он все же закончится, не умирала. Теперь кошмар превратился во что-то цельное, неизменяемое, почти привычное, застрял огромным осколком в сознании, бесконечно кровоточил. Арсению оформили перевод в Ленинградскую консерваторию, и со второго семестра третьего курса он стал студентом молодого педагога Семена Михнова. О своей проблеме с выходами на сцену он рассказал наставнику сразу. Тот сперва попробовал заставить студента преодолеть себя, но потом бросил эти попытки, натолкнувшись на нечто для себя необъяснимое.
Экзамены и зачеты Арсений сдавал в классе. Ему делали исключение.
Никакой сцены, никакого намека на публику. Только комиссия. И то… за дверью. Педагоги кафедры и сами не могли себе объяснить, как на такое пошли. Но не отчислять же талантливейшего студента!
Весной 1975 года Ленинград наконец подпустил к себе Арсения, разрешил ему открыть свои кладовые и снисходительно наблюдал, как он удивлен их содержимым. Своеобразный курс молодого бойца закончился. Они с отцом словно выбирались из болота, медленно, шаг за шагом, боясь резких движений и в то же время чуя смертельную опасность промедления. Старший Храповицкий обрел почву под ногами раньше и помог обрести ее сыну.
Может ли отец стать девятнадцатилетнему юноше и отцом, и матерью сразу? Наверное, нет. Но у Олега Александровича получилось нечто большее. Он сумел так подстроиться под взрослеющего ребенка, что тот ощущал себя постоянно в безопасности, при этом абсолютно не тяготясь опекой. Да и не было никакой опеки. Была только отцовская и сыновняя любовь и острое и отчаянное осознание того, что надо держаться.
Из библиотеки Пушкинского Дома Олег Александрович регулярно приносил какие-то поэтические книги, и Арсений зачитывался ими, особенно Блоком. Часто всплывали в памяти синие корешки томов «Большой серии поэта» из их московской домашней библиотеки. Но он гнал от себя это. Того уже не будет.
Теперь боль многих русских стихов переживалась по-иному. Прежде он воспринимал ее чуть со стороны. И вот она ворвалась в него: свои страдания он сопоставлял с теми, о которых читал. Легче от этого не становилось, но это все же было лучше, чем погибать от единственной, ни с чем не сравнимой собственной беды.
Изначально, при первом осознании сложности мира, для Арсения вера в искусство существовала неотделимо от веры в жизнь. Разрыв отца с матерью, да еще такой безжалостный с материнской стороны, подорвал в Арсении обе веры. Подорвал достаточно сильно. Дошло до того, что в первый месяц их ленинградской жизни он как-то за ужином признался отцу, что, скорее всего, бросит учебу, поскольку не видит в профессии для себя никакой перспективы. Лучше поменять профессию, пока не поздно, говорил он отцу так, будто речь шла о чем-то совсем обыкновенном. Олег Александрович пришел в ужас от услышанного. Но в спор с сыном сразу не вступил. Понял, что надо подождать. Здравый смысл и талант рано или поздно перевесят временное малодушие. Что в итоге и произошло. И поэзия сыграла в этом не последнюю роль. В первую голову Блок. В нем Арсений нашел такую несгибаемую творческую волю, что она словно перешла и на него. Нельзя отступаться от того, чему столько отдал. Нельзя, что бы ни случилось.
Если бы не череда обстоятельств, квартира, в которой поселились Арсений и Олег Александрович, после смерти ее хозяев, старших Храповицких, скорее всего, отошла бы государству. В те годы ни о каком наследовании жилплощади никто не мог и помыслить. Когда Александр и Матильда Храповицкие еще были живы, Светлана Львовна пару раз намекала супругу о необходимости родственного обмена, но у Олега Александровича это вызывало острое отторжение. Казалось, Светлана заранее хоронит его родителей. А за пару лет до смерти старики Храповицкие совершили чудовищную на первый взгляд глупость, прописав к себе студентку, помогавшую им по хозяйству. Когда это вскрылось, Светлана Львовна пребывала в тихой ярости, а Олег Александрович отправился в родной город, чтобы выяснить все на месте и, возможно, попытаться что-то исправить. Он ожидал увидеть бесцеремонную паршивку, обманом завоевавшую доверие его родителей, но наткнулся на ангельское белокурое создание, встретившее его с таким радушием, что весь его праведный пыл по спасению семьи поутих. По возвращении жена назвала его тряпкой, но потом почему-то прониклась его рассказом о милейшей Анюте, ухаживающей за его стариками. Анюта действительно оказалась милейшей. Благодаря ее опеке Александр Сигизмундович и Матильда Павловна прожили дольше и счастливей. Вскоре после их смерти она вышла замуж и поселилась у мужа. Квартирой почти не пользовалась. Жильцов не пускала. Когда Олег Александрович позвонил ей и сообщил, что переезжает в Питер, она незамедлительно ответила, что квартира его родителей по праву принадлежит ему и он может пользоваться ей как захочет. А если у него есть необходимость прописаться в ней, она сделает все, что от нее нужно, и сама ни на что претендовать не станет.
Храповицкий тогда подумал: слава богу, что папа с мамой прописали сюда эту студентку, а то бы им сейчас с Арсением негде было приткнуться.
Есть в жизни каждого человека такие дни, которые он с удовольствием вычеркнул бы из памяти, но они как раз вонзаются в нее с такой силой, что от них никак не избавишься. Таким днем для Арсения был день их окончательного отъезда из Москвы. Семейный ужас к тому времени принял почти привычные формы. Светлана Львовна делала вид, что ни ее старшего сына, ни мужа в квартире просто нет. Поразительно, как у нее хватало терпения на все это. Но она действительно ни одним словом не обнаруживала, что ее близкие присутствуют рядом с ней. С мужем она перестала общаться после того скандала из-за его подписи под письмом, осуждающим Сахарова и Солженицына, а с сыном после напряженного разговора, в конце которого Арсений заявил ей, что не поддерживает ее отношения к отцу, считает отца прекрасным человеком и всегда будет на его стороне. Арсению мнилось, что его столь резкие слова повлияют на мать и она помирится с папой, но вышло все наоборот. Потом был тот приснопамятный конкурс Чайковского, закончившийся не триумфом, а сломанным пальцем и последующей катастрофой. А осенью умерла бабушка Арсения, приведя деда в долгое неутешное отчуждение от всего происходящего. То, что неуклонно разрушалось, к зиме разрушилось окончательно.
Весь декабрь Олег Александрович готовил их переезд в Ленинград. Готовил в тайне, словно боясь, что, если кто-то узнает о таком плане, все сорвется. Уезжали они 31 декабря 1974 года. Утром, пока все спали, они ушли из квартиры на Огарева, погрузили вещи в такси, затем сдали их в камеру хранения, а сами бродили по заснеженным улицам близ вокзала, обсуждая то, как они будут теперь жить. Ничего из обсуждаемого впоследствии в жизнь не воплотилось, но в самом этом разговоре они спасались от надвигающейся неизвестности. Арсений все же настоял, чтобы папа оставил для мамы записку, предупреждающую об их бегстве и указывающую адрес их нового места жительства. Юноша еще надеялся на то, что мать все же одумается, разыщет их, умолит их вернуться, скажет, что все отныне будет по-старому. Храповицкий-старший уступил сыну, хотя, в отличие от него, ни секунды не сомневался, что Светлана ничего не предпримет для их возвращения.
Вечером они сели в поезд. В спальный вагон «Красной стрелы». Там и отметили Новый год. Глядя тогда во всегда чуть наивные и широко распахнутые навстречу всему свету глаза отца, Арсений поклялся никогда не посвящать его в то, что он знает: причина их с матерью разрыва кроется вовсе не в ее невесть откуда взявшемся диссидентском чистоплюйстве.
Это случилось в мае 1974 года. В один из субботних дней профессор Воздвиженский из-за плохого самочувствия не поехал в консерваторию и пригласил Арсения позаниматься у него дома. Ведь до конкурса Чайковского оставалось совсем немного времени. Надо было подойти к нему в оптимальной готовности. Перед конкурсами и экзаменами педагоги по музыке больше всего походят на спортивных тренеров, готовящих своих подопечных к решающим соревнованиям. Арсений с удовольствием принимал предконкурсные нагрузки, занимался по многу часов, оттачивая каждую музыкальную фразу, каждый пассаж, каждый аккорд, иногда доходя в этом до полного, изнеможденного слияния с инструментом. Воздвиженский помогал ему правильно выстроить форму, придать исполнению глубину и зрелость. Кульминацией его выступления в первом туре задумывался концертный этюд Ференца Листа «Блуждающие огни». С ним ученик и учитель возились в тот день больше всего. Воздвиженский стремился довести Арсения до такого уровня исполнения, чтобы техника не была видна, чтобы все воспринималось естественно. Профессор все эти дни жил в нарастающем азарте. Арсений Храповицкий, без сомнения, самый его талантливый ученик за все время работы в консерватории. И это видно не только ему. Педагог немного боялся, что кафедра не допустит первокурсника до участия в конкурсе, сочтет, что это слишком рано, что надо еще подождать, но утверждение кандидатуры его блестящего ученика прошло без сучка и задоринки. Теперь главное, чтобы Арсений показал все, на что способен. Не перегорел. Ведь характер у него очевидно неровный, немного замкнутый. Справится ли он с волнением? подобные мысли крутились в голове профессора, но в этом кружении не наблюдалось никакой тревоги, скорее боязнь сглазить. С каждым занятием Арсений Храповицкий приобретал музыкальную зрелость и артистическую стать.
Воздвиженский жил в высотном доме на Котельнической набережной, на одном из последних этажей, и в тот вечер, после трехчасового занятия, Арсению почему-то захотелось спуститься по лестнице, а не ехать в массивном, степенном лифте с отвратительно хлопающей железной дверью. Он сбежал один пролет и остановился у окна, залюбовавшись. Вид на Москву открывался впечатляющий: мягкое солнце нежно проливалось на мостовые и набережные, отражалось в покачивающейся воде и в отрешенных куполах храмов, а небо накрывало все это идеально ровной лазурью. Над покойными городскими крышами кружились голуби, то суетливо хлопая крыльями, то замирая в долгом парении. В голове у него звучали «Блуждающие огни», которым сегодня профессор уделил почти все время урока. И в конце даже захлопал тому, как Арсений исполнил этот виртуознейший этюд Листа. До этого времени он совершенно не задумывался о том, какой результат покажет на конкурсе, а теперь вдруг озадачился этим. А если он победит? Нет. Об этом думать сейчас не стоит. Это отвлекает. Главное, сыграть так, чтоб было потом не стыдно. Сладкие предчувствия тем не менее все же проникли в него. А вдруг выиграет?
Вид завораживал, и он принялся рассматривать город во всех деталях, с прямоугольными крошечными автомобилями, с по-весеннему одетыми, бодро преодолевающими городские расстояния людьми, с отблесками в подслеповатых от солнца окнах, с подкрашенными розовым и желтым стенами домов, с нервными, едва заметными порывами листвы, с немного волнистой, будто лакированной поверхностью реки, с белыми прогулочными пароходами, чьи носы походили на мордочки каких-то фантастических животных, с мостами, уверенно опирающимися на каменные берега, с красными кремлевскими башнями и белой колокольней Ивана Великого немного поодаль.
Он уже собирался продолжить путь вниз по душноватой и теплой в пролетах у окон и терпко прохладной между ними лестнице с безупречно коричневыми перилами, как вдруг его глаза прилипли к тому, чего он никак не ожидал сейчас увидеть: по мосту через Москву-реку рядом с каким-то мужчиной шла его мать, Светлана Львовна Храповицкая. Сперва ему чудесно примерещилось — отец? — но потом, присмотревшись к походке микроскопического человека, понял, что это не папа, а кто-то другой. Кто же это? И что мать с этим типом здесь делает? Куда они идут? Можно еще успеть догнать их? Мать тогда, несомненно, представит ему своего спутника. И все прояснится. В этот момент как раз этажом ниже шарахнула дверца лифта, а потом раздались шаги. Арсений вприпрыжку миновал один лестничный пролет. Слава богу, лифт никто не успел вызвать.
Конечно, мать и того, кто сопровождал ее, Арсений не настиг, хотя бежал по мосту что было сил и даже чуть не выронил папку с нотами.
На той стороне реки мужчина и женщина словно растворились куда-то.
Арсений вертел головой, всматривался в перспективу, предполагал, в какую сторону они могли пойти, но результата не достиг. Не исключено, они сели в трамвай. Арсений видел, как, поместив пассажиров в свое продолговатое брюхо, 39-й номер отползал от остановки.
В смятенном и несколько сомнамбулическом состоянии юноша пошел по Новокузнецкой улице. Дыхание постепенно успокаивалось. Что это сейчас было?
Обычно в субботние и воскресные дни мама не выходила из дома без каких-то очень веских причин. Димкина няня, добронравная Дуняша, единственный человек в доме, на которого события последнего года никак не повлияли (поглощенная заботами о своем подопечном, она попросту ничего не заметила), по выходным отдыхала дома, и Светлана Львовна почти не отходила от Димки, играла с ним, гуляла, читала ему вслух. Если Димка убегал от нее к брату или к отцу, чтобы увлечь их в какие-нибудь свои детские затеи, она не противилась, но довольно быстро делала так, что младший сын возвращался под ее крыло. Что же сегодня привело ее на мост, да еще и в сопровождении незнакомого Арсению мужчины? Не спросить ли ее дома, между делом, с кем она переходила Москву-реку?
На Новокузнецкой улице собрались дома из разных эпох, как часто случается в центре Москвы. Были и одноэтажные домики с деревянным верхом, попадались шикарные доходные особняки в стиле модерн, кое-где наблюдались и проявления архитектурных фантазий советской власти. Арсений получал удовольствие от этой улицы, от ее шуршащих мостовых и теплых тротуаров, от трамвайных путей, от опутывающих ее переулков с уютными перспективами.
Прежде ему не приходилось тут прогуливаться. Переживания немного отступали. В конце концов, мало ли какие у мамы могут быть дела и знакомые?
Вот уже показалось на другой стороне Садового кольца здание Павелецкого вокзала. Пора в метро и домой. Вечером надо еще позаниматься немного. Он дошел до конца улицы вдоль могутного, сталинского закала дома, повернул налево, где у метро толпился разный народ, и тут ему явилось такое, что он чуть не присел на корточки, чтобы как-то спастись от нахлынувшей горячей волной откуда-то снизу всепоглощающей мерзости.
Около павильона метро, почти у самых дверей, мать притянула к себе голову того самого человека, с которым Арсений видел ее на мосту, и истово и быстро целовала его то в губы, то в щеки, потом коротко, почти незаметно перекрестила и наконец отпустила. Мужчина, не оборачиваясь, торопливо прошел в метро, а мать горестно побрела в сторону улицы Бахрушина.
Словно кадр из фильма. Причем какой-то нечеткий, замедленный.
Арсений замер и так и стоял, пока его кто-то грубо не оттолкнул с криком:
— Чего застыл! Дай пройти.
Это спешил на вокзал какой-то краснолицый толстяк с двумя огромными чемоданами.
* * *
Арсений поставил себе цель выяснить, с кем мать изменяла отцу. А то, что дело обстояло именно так, он ни секунды не сомневался. Около метро «Павелецкая» он получил этому весьма убедительные доказательства.
Через неделю он уже знал многое.
Занятия в консерватории в том году в связи с конкурсом Чайковского окончились раньше положенного, в середине мая, и в будни Арсений чаще оставался дома, чем обычно. Воздвиженский постепенно снижал нагрузки. Готовность к конкурсу была почти идеальной, и теперь ученику нужно было немного хлебнуть воздуха. Разжать себя. Михаил Оскарович просил Арсения не заниматься больше трех часов в день.
Отдельные репетиции в консерваторском классе уже походили не на занятия, а на генеральные прогоны.
Арсений не подавал виду, но после «черной субботы» его помыслы никак не ограничивались конкурсом. В нем закипали бури эмоций, острая обида втыкала в него свои прутья, казалось, что его предали и выдали врагу.
И вот в один из дней, из тех пленительных дней городской весны, когда зелень еще не обрела своего зрелого летнего цвета, но уже крепка и пышна, а визги детей с детских площадок мешаются с гомоном окончательно сбросивших с себя зиму птиц, Арсений решил действовать. Ситуация к этому располагала. Дед поехал навестить бабушку, проходившую очередную, с каждым разом все более безнадежную химиотерапию в онкоцентре на Каширке, Дуняша с Димкой ушли гулять, и, судя по погоде, скоро их ждать не приходилось, мать и отец также отсутствовали. Какое-то время ему никто не помешает.
Первым делом Арсений провел обыск в бывшей родительской спальне. После того как отец перебрался спать на кухню, эту комнату можно было назвать материной.
Он обследовал каждый сантиметр со рвением и тщательностью, которых не ожидал от себя. Нечто новое, темное, чего он не успел в себе толком оценить и познать, проснулось и руководило его поступками.
Что рассчитывал найти? Он и сам не ответил бы себе на этот вопрос. Но он отыскал. В гардеробе, на полке, за какими-то женскими тряпками. Находка его поразила.
Это были аккуратно скрепленные тонкой резинкой квитанции, из которых следовало, что мать регулярно отправляет денежные переводы некоему Волдемару Саблину в город Владимир. Суммы значились разные — некоторые довольно внушительные. Саблин проживал во Владимире, на улице Чайковского, дом 34.
Арсений, изучив квитанции, положил их туда же, откуда он их достал. Поражал не только сам факт их существования, подтверждающий весьма тесную связь его матери с другим мужчиной, но и то, зачем мать хранила их. Не боялась ведь, что кто-то их найдет.
Весь ее пафос по поводу подлости отца, подписавшего хулу антисоветским деятелям, ничто по сравнению с ее второй жизнью.
Улица Чайковского. В Москве тоже есть такая улица…
Весь оставшийся день Арсений провел в сомнениях. Что делать? Мать живет двойной жизнью. Содержит какого-то мужчину. Судя по датам на квитанциях, это продолжается уже не первый месяц. Как ему это все в себя впустить? Как смириться с этим? Или не смиряться?
Говорит ли это наверняка о том, что это ее любовник? Проговаривая и взвешивая на языке это слово, он морщился, как от кислого. И кто этот Волдемар Саблин? Это с ним он видел мать неделю назад из окна высотки на Котельниках? Да с ним, конечно. С кем же еще? Она целовала его так, как не целуют никого, кроме любимых мужчин.
Надо сказать, что Арсений к своим годам представление о взаимоотношениях мужчин и женщин имел скорее умозрительное, нежели чувственное. Фанатичная преданность музыке заняла в нем и ту часть его юной жизни, которую иные отдают мнимым, чуть истеричным первым влюбленностям, нелепой пубертатной суете, азарту начального взросления, неизменно граничащего с пошлостью. Будь в его биографии хоть крохотная страничка, связанная с противоположным полом и влечением к нему, он бы воспринял всю эту драму чуть по-другому, попытался бы войти в положение мамы, попробовать понять ее; но на такие характеры, какой сложился к той поре у Арсения, подобные ситуации наезжают, как поезд на зазевавшегося на рельсах пса.
Ночью сон отказался закутывать его в свои сладкие прозрачные покрывала. Отлетал от него. Испуганно смотрел со стороны. Чурался. Не хотел проникать в его глаза.
Нечто большее, чем он сам, неуклюже билось в нем и разрывало изнутри.
До утра он промаялся, все же надеясь уснуть. Но тщетно. Как только рассвет утвердился над городом окончательно, выкрасив все городские здания на свой прихотливый манер и привнеся в мир щемящую остроту неизбежной смены времени суток, он определился окончательно с тем, как ему следует теперь поступить.
Улица Чайковского, 34. Город Владимир.
* * *
Несмотря на ранний час, электричка до Владимира наполнилась людьми под завязку, до стояния в проходах, толчеи в тамбурах и неприятной близости всех к друг другу. Правда, минут через сорок после череды пригородных станций с маленькими вокзальчиками народу поубавилось. Нагруженные всевозможной поклажей дачники перемещались из электропоездов в свои шестисоточные поместья. На остановках методично холодные голоса из репродукторов объявляли, какой поезд на какой путь прибывает.
Весеннее Подмосковье в окнах захлебывающегося от колесного стука вагона трепетало зеленью придорожных кустов, цеплялось за землю неказистыми железнодорожными постройками, открывало бескрайний простор щемящими видами полей и перелесков. Долгое путешествие, как ни странно, подействовало на Арсения успокаивающе. И это спокойствие подарил ему… Чайковский. Ведь он едет к дому на улице Чайковского, и это как-то обнадеживает, хотя цель его нынешней затеи все еще туманна и непредсказуема. О чем он спросит человека, которого собрался навестить? И хватит ли у него в итоге смелости что-то предъявить ему? Пока улица Чайковского еще далеко, решимости у него хоть отбавляй. А вот когда он подойдет к дому? И как выглядит этот дом?
Скоро ему предстоит участвовать в конкурсе Чайковского, и в первом туре он исполнит знаменитую фортепианную «Думку». Как размашисто, словно бесконечное минорное арпеджио, распространился Петр Ильич по его жизни! Еще и памятник ему в двух шагах от его дома.
Иногда он задремывал, но не крепко, как-то неудобно, и тут же почти просыпался.
Во Владимире прежде ему бывать не приходилось…
По пути он проголодался. В владимирском вокзальном буфете купил бутерброд с сыром, который, несмотря на голод, доесть не смог. Хлеб был как будто влажный, масло отдавало горечью, а сыр показался почти безвкусным. Плюс зрелище обсиженного мухами прилавка никак не выходило из головы. «Сколько же мух побывало на этом куске хлеба с маслом и сыром, пока его мне продали?» — дивился про себя Арсений.
Выйдя на привокзальную площадь, он расспросил дежурного милиционера, как ему найти улицу Чайковского. Тот сначала хмурился, словно его просят о чем-то неприличном, потом, вяло цедя слова и что-то рисуя рукой в воздухе, обрисовал юноше маршрут.
Во Владимире по московским меркам — все близко. Поэтому Арсений довольно скоро достиг искомого дома.
Кирпичная пятиэтажка, жильцу которой мать регулярно отправляла деньги, выглядела типично для неторопливо-советской провинции. На ближних лавочках — ряды наблюдательных бабушек в обязательных платочках, на балконах — белье, развешенное на чуть изогнутых под тяжестью мокрой ткани веревках, на неровных тротуарах у маленьких бордюров — несколько неновых жигуленков и один совсем уж древний «Запорожец». Парадной стороной дом выходил на улицу, весьма широкую и шумную, а тыльной, там, где подъезды под железными козырьками, — во двор, насыщенно зеленый и свежо пахнущий.
На квитанциях, найденных Арсением в комнате матери, номера квартиры Саблина нигде не значилось. Надо спросить у кого-нибудь. Наверняка здесь все друг с другом знакомы. Дом довольно маленький.
Арсений подошел сначала к женщине, мерно покачивавшей коляску, но, как только он открыл рот и произнес первые слова, она замахала на него руками и прошипела:
— Ребенка разбудите! С ума, что ли, сошли — так орать…
Арсений извинился, смутился и пошел к бабушкам, восседавшим на скамейке возле одного из подъездов и уже несколько минут заинтересованно его рассматривавшим:
— Извините, вы не скажете, Волдемар Саблин здесь проживает?
Одна из старушенций, наиболее бойкая, бдительно ответила вопросом на вопрос:
— А зачем он вам понадобился?
Арсений замялся:
— Мне надо ему кое-что передать, — неумело соврал он. Это первое, что пришло в голову.
— А… Так это можно. Его нет сейчас. Он скоро придет. — Вторая бабушка истекла радушием и желанием помочь. — ты посиди тут, сынок.
Арсений с облегчением опустился на свободное от бабок место на скамейке. Те как-то напряженно переглядывались. Пока одна не встала и, покряхтывая и покачиваясь на тромбофлебитных ногах, не попрощалась с товарками:
— Пока. Пойду я, девушки…
Две оставшиеся бабушки игриво пискнули. Видимо, такое обращение друг к другу было у них в ходу.
— Надо обед разогревать. Скоро Сашка явится.
Кто такой Сашка, Арсений не узнает никогда.
Попробовать выяснить что-нибудь у этих пожилых женщин о Саблине? Может, спросить, не появлялась тут одна женщина, и описать мать? Черт, надо было взять ее фотографию. Но это как-то чудно будет выглядеть. Слишком подозрительно. Арсений перевоплотился в Шерлока Холмса, знаменитого и любимого советскими людьми сыщика из дефицитных черных томов собрания сочинений Артура Конан Дойла. И начинал стыдиться этого. Зря он сюда приехал. Всё — мерзость.
У подъезда резко затормозила белая машина, из нее вышли двое и уверенно направились к Арсению. Один из подошедших резко спросил у одной из старух:
— Этот?
Та суетливо закивала.
— Мы сотрудники Комитета государственной безопасности, и вам придется пройти с нами, — отчеканил тот, кто до этого молчал и впивался глазами в юношу.
— Что случилось? Я Арсений Храповицкий. Я из Москвы. Я здесь по личному делу.
— Вы подозреваетесь в соучастии в антисоветской деятельности известного вам Волдемара Саблина. И лучше вам сразу отдать нам то, что вы собирались ему передать.
1949
В феврале Шура и Таня переехали из Пушкинского района Московской области в Москву. Хлопоты неутомимого Льва Норштейна, снова обратившегося к Елене Фабиановне Гнесиной по поводу Лапшина, увенчались успехом: молодому композитору дали комнату в квартире на Новопесчаной улице. В марте к молодоженам перебрались из Новосибирска мать композитора и его сестра-туберкулезница, которой надежду на выздоровление давала только вера в московских светил. Все это добавило хлопот, усложнило бытовую сторону до предела, но тем не менее нельзя было сказать, что семейство тяготилось жизнью. Они шутили, смеялись, даже строили планы, близкие и далекие, читали и обсуждали книги, слушали пластинки, много ходили по городу, а по вечерам играли до остервенения в карточного «дурака», иногда переругиваясь, заподозрив кого-то в нечестной игре.
Лапшин продолжал зарабатывать таперством вместе со Шнееровичем. О возвращении в консерваторию не могло быть и речи.
Никто не собирался ничего никому прощать, особенно происхождение.
Однажды они после сеанса в кинотеатре «Художественный» пристроились в небольшую очередь около табачного киоска, куда только что привезли папиросы «Казбек». Когда достояли до конца, сзади раздался пьяноватый медленный голос: «Жиды, вон из очереди!» Шнеерович резко оглянулся и начал поднимать руки со сжатыми кулаками. Лапшин испугался, что сейчас начнется потасовка. Но случилось то, чего обычно не ожидаешь. Все стоявшие в очереди так рьяно зашикали на хама, что он вдруг весь как-то скукожился и, пошатываясь и поругиваясь, куда-то зашагал. Лапшин, когда они, купив папиросы, отошли на некоторое расстояние от киоска, закурив, сказал:
— Видишь, не все уроды в нашей стране.
Шнеерович, все еще тяжело дыша, выпустил дым через ноздри, глянул на друга, чуть прищурившись, и отвернулся. Потом изрек:
— Все равно здесь всегда останутся скоты, которые будут считать, что кто-то в чем-то виноват только по факту своего рождения. Сашка! Мы, наши люди, страна, выиграли войну. Для чего? Чтобы преследовать евреев? Как немцы? Может, нас еще скоро в печах начнут сжигать? Здесь вот прям, у Арбатских ворот, установят печи и будут сжигать.
Лапшин молча выбросил папиросу, обнял друга и успокоительно произнес:
— Когда-нибудь это изменится. И не все так уж фатально. По идиотам всех нельзя судить. Ты многое преувеличиваешь.
Его всплески бытового антисемитизма не сильно задевали. Что они в сравнении с той угрозой, которая пронизывала каждый его час.
Посиделки у Людочки после встречи Нового, 1949 года прекратились как-то сами собой.
Лапшин и Шнеерович никогда о них не вспоминали. Как будто договорились. Танюша также о них молчала. Ее тогда, в новогоднюю ночь, так потрясло, как ее мужчина, напившись, вдруг начал всем демонстрировать шов от своей операции, призывая всех его потрогать, что будь возможность вырезать все это из памяти хирургическим ножом, она бы ею не пренебрегла.
Но память не желудок, резекцию не сделаешь за один раз.
Где-то в середине ноября Шнеерович заявился на Новопесчаную страшно взволнованный. В это время у сестры Лапшина как раз был врач, и Шура, приложив палец у губам, отвел друга на кухню, где тот выложил ему новости. Они выглядели неожиданно, странно и пугающе.
Сегодня утром Шнеерович получил телеграмму. Текст ее гласил: «Срочно приходите в Борисоглебский. Несчастье. Франсуа».
Нетрудно было догадаться, что если телеграмму отправил Людочкин сердечный друг, то речь идет о несчастье именно с Гудковой.
Через час с небольшим приятели уже звонили в хорошо знакомую дверь. Два звонка.
Танечка c ними не пошла. Да ее особо и не уговаривали.
Им довольно долго не открывали. Потом щелкнул замок, и появилось заплаканное лицо Светы Норштейн. Она бросилась к Лапшину на шею, уткнулась ему в грудь и отчаянно и протяжно заревела. У Лапшина острой болью дернулось сердце: кто-то умер. Так рыдают только в случае непоправимой утраты. Не с Львом ли Семеновичем несчастье? Нет. Глупости. Телеграмму ведь отправлял Франсуа. Лев Семенович тут ни при чем.
Шуринька и Миша прошли в комнату Гудковой. Там они застали Генриетту Платову и Веру Прозорову. Вид у обеих был насупленно-скорбный. Позы — соответствующие. Прозорова походила на ученицу за партой: прямая спина, поднятый подбородок, волосы, заплетенные в толстую косу, собранный, напряженный взгляд. Платова, напротив, картинно сгорбилась, подперев лицо руками. Плечи ее покрывал печальный серый платок. Франсуа, почему-то надевший клетчатый пиджак и застегнувший его на все пуговицы, деловито ходил туда-сюда. Лапшину он сейчас напомнил персонажа немого кино. Какого-нибудь иностранца в исполнении русского актера.
Пустой стол, накрытый белой скатертью, усиливал атмосферу несчастья.
— Евгения арестовали, — холодно и почти безучастно произнесла Прозорова. — Теперь нам всем грозит опасность. Мы все…
— Что ты заладила, Вера! При чем здесь все мы? Я слышала, людей сейчас часто забирают по ошибке. Потом отпускают, — истерично перебила Прозорову Светлана.
— Многих ты знаешь, кого выпустили, — прошипела Вера и, зло сверкнув глазами, сжала губы, ожидая общей поддержки. Но все молчали.
Света опять начала всхлипывать.
Франсуа перестал мерить шагами комнату, остановился, встрепенулся, будто только сию секунду заметил вновь прибывших Лапшина и Шнееровича.
Никогда не терявший самообладания и тонуса Михаил, пробуя сострить, напел:
— Нас утро встречает прохладой…
Генриетта карикатурно продолжила:
— Нас ветром встречает река.
А потом, повинуясь чему-то неведомому в себе, Вера Прозорова и Света Норштейн подтянули слабыми, подрагивающими голосами:
— Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка…
Лапшин не подпевал. Он с трудом понял, что Евгений — это Сенин-Волгин. Он почему-то забыл его имя. Допев первый куплет «Песни о встречном» Шостаковича, Вера принялась громко, истерически хохотать. Это длилось так долго и так походило на сумасшествие, что вскоре все кинулись ее успокаивать, уговаривать прекратить, взять себя в руки.
Наконец компания обрела нечто единое, сплотилась в общей тревоге, в общем страдании. Смутном, неясном, но общем.
Шнееровича и Лапшина ввели в курс тех ужасающих обстоятельств, которые заставили Франсуа выслать телеграмму всем друзьям его невесты Людочки, адреса которых он нашел в ее записной книжке.
Выяснилось в итоге следующее.
Некоторое время назад в Черновцах Евгения Сенина-Волгина задержали и вменили пресловутую 58-ю статью — антисоветская агитация и пропаганда. Узнали об этом Франсуа и Людмила, ночевавшие в ту ночь в Борисоглебском (в дипломатической квартире Франсуа Людочке пока оставаться было нельзя: они еще не получили разрешения на брак), когда к ним нагрянули добры молодцы в синих фуражках и подвергли Людочку тщательному допросу на предмет ее знакомства с врагом народа Сениным-Волгиным. Франсуа ни о чем не спрашивали. Словно его и не было в комнате. По итогам этой экзекуции Людочку эмгэбисты забрали с собой… Франсуа ждал ее до утра. Когда она не вернулась, в панике вышел на улицу. Встретил Свету. До этого он видел девушку всего один раз, в новогоднюю ночь, а потому прошел бы мимо, если бы девушка его сама не окликнула.
Он все рассказал ей. Не мог хранить в себе. Да и что-то внутри подсказало, что Светлане можно открыться. Вместе они решили, что Франсуа необходимо собрать всех, кто участвовал в посиделках у Гудковой и, соответственно, был знаком с Сениным-Волгиным. В любом случае вместе они быстрее придумают, как им всем себя вести, если следователи с Лубянки доберутся и до них. Света помогла Франсуа отправить телеграммы.
Они с Гудковой частенько ссорились, Людмила считала Светлану чересчур заносчивой, а Света раздражалась из-за того, что, по ее мнению, Людочка мнит себя бог знает кем и вызывающе ведет себя, но в нынешних обстоятельствах все это теряло хоть какую-нибудь значимость. Светлана страшно переживала за Людмилу. Что с ней там делают? А Сенин-Волгин? Жив ли он вообще? Она испытывала жгучий стыд оттого, какую ненависть вызывал в ней порой поэт и математик, ныне томящийся в застенках. Да, он говорил всякую чушь. Но он никого не ограбил, не убил. Мысли ее возникали такими нервными и слабыми, что она ни одну из них не могла толком додумать.
— Не будем обольщаться, — начала Прозорова резко и чуть картинно, — теперь всех нас потянут на Лубянку. Что? Что вы молчите? Думаете, вас это минует? Чертов математик, договорился.
— Не надо так о Евгении. Не надо. Ему сейчас ужасно, — сказал Франсуа с чуть карикатурным акцентом и поднял руку, как дирижер, намеревающийся показать оркестру снятие.
— Почему не надо? Вам, Франсуа, тоже есть о чем задуматься. Может, следили за вами? Нет? И через Евгения подбираются к вам? Вы не шпион случайно? Говорят, в посольствах все шпионы. Вдруг все это из-за вас? Не думали?
— Вера, мы сюда не ругаться пришли. Прекратите. Мы собрались здесь, чтобы о чем-то договориться. Понять, как нам вести себя. — Франсуа нервничал, но дипломатическая выучка позволяла ему это не показывать. — Наверняка вас, если вызовут, станут спрашивать про антисоветские разговоры. Я ведь и сам их здесь слышал. Как вы собираетесь вести себя?
— Конечно, мы ничего не будем подтверждать. Тем более мы почти ничего не знаем о Евгении толком. Как он арестован? При каких обстоятельствах? — Шнеерович вел себя так, словно имел полное право делать это за всех.
— Ты думаешь, на Лубянке перед тобой отчитываться станут? — зло хохотнула Генриетта.
— Может быть, обратиться в МГУ? — продолжил рассуждать Михаил, не реагируя на издевку. — Ведь он там защищался. Скорее всего, именно МГУ отправил его на работу в Черновцы. Не сам же он туда подался. Да, точно. Его послали туда преподавать математику. Туда никто не хотел ехать. Там еще не спокойно. Банды всякие. А он согласился.
— Откуда вы все знаете? — недобро поинтересовалась Вера.
— Я его встретил летом. Случайно. Мы немного поболтали. — Михаил потупился, будто его уличили в чем-то неприличном.
Лапшин молчал. Он находился внутри своего собственного ада, который ему удавалось какое-то время не замечать, но теперь он набух, как гигантский нарыв, и быстро становился больше его самого. Обманывать себя больше не получалось. Гигантский маховик, одну из шестеренок которого он, на беду себе, обнаружил больше года назад на Собачьей площадке, никуда не делся. Он разогнался и готов передавить и переломать всех до конца.
— А что вы, Шуринька, молчите? — Генриетта повернулась к Лапшину. — Вы так напуганы? Сидите будто в рот воды набрали.
Лапшин вздрогнул. Голос Платовой, такой громкий и неприятный, воткнулся в него и, казалось, прошел до самой середины головы, болью резонируя в глазах.
— Точно напуганы. Даже слова вымолвить не можете. Вам не плохо? — продолжила Генриетта. — На вас прям лица нет. Франсуа! Надо найти воду!
Французский дипломат сперва что-то неуверенно поискал глазами по комнате, потом подошел к посудному шкафу и открыл дверцу. Внутри стоял пузатый ребристый графин.
— Вот. Только водка. — он снял стеклянную пробку, понюхал. — Да. Это водка…
— А давайте водки выпьем? — предложила Прозорова. — Что уж теперь… Хуже точно не будет.
— Да. А то что-то холодно, — ответил Шнеерович снова за всех.
А в кабинете на Лубянке Аполлинарий Отпевалов сидел в наушниках и, светло и беспечно улыбаясь, слушал все, что говорилось в квартире в Борисоглебском переулке. Пока все шло по плану. Операция плавно входила в следующую фазу.
1985
После первого глотка коктейль «Шампань-коблер», так рекламируемый Аглаей, показался Димке отвратительным. Но сказать об этом девушке он побоялся. Ее хорошее настроение обернулось для него испытанием, почти обузой: все надо было делать так, чтобы ей его не испортить. Хрупкость состояния девушки заполняла все пространство между ними: чуть нарушишь что-то, и все треснет, скривится недовольством.
— Ну как тебе эта штука? — Аглая пока не прикоснулась к своей порции. — Понравилось?
— Угу. — Димка пытался проглотить как можно больше слюны, чтобы заглушить во рту сладкий спиртовой привкус.
— Ну давай тогда хоть чокнемся. — Аглая подняла свой бокал и потянулась к Димке.
Он сделал то же самое, но как-то чересчур поспешно, и потому два стеклянных сосуда столкнулись друг с другом на грани аварии.
Аглая смешно поморщилась:
— Ну ты и медведь, Димка. В комитете комсомола небось не учат, как чокаться с девушкой.
Аглая расхохоталась, а Димка надулся:
— Не буду тебе больше ничего рассказывать.
Совсем недавно он поведал ей, что его избрали в комитет комсомола школы, и она потом долго трясла его руку и называла «товарищ».
— Ладно. Не обижайся. У нас в консерватории тоже комитет комсомола есть. Дело это нужное, никто не спорит. Тем более сейчас все меняться будет в стране.
В том, какие в стране должны произойти перемены, Аглая, разумеется, мало разбиралась. Разговоры на эту тему слышала только от отца с матерью. И теперь повторила точь-в-точь их слова.
Момент, когда он почувствовал себя неожиданно раскованно, Димка пропустил и никак не связал его с воздействием спиртного. И вот они уже разговаривали, как обычно, перескакивая с одного на другое, ничего не пытаясь скрыть или недосказать.
И в нем, и в ней жила жажда чего-то настоящего, принадлежащего только им. И, несмотря на разницу в возрасте и опыте, эта жажда их сближала. Влюбленность Димки в Аглаю не была пока еще устроена плотски, никак не связывалась с влечением, ее суть — подростковое желание восхищаться чем-то, боготворить, страдать от недоступности объекта и снова стремиться к нему, к ее благосклонности, мечтая о взаимности и боясь представить ее.
Аглая, у которой уже случались отношения с парнями, но не серьезные, не обязательные и оставляющие за собой не сладость воспоминаний, а утомительную маету разочарования, оттого что выбрала вовсе не того, кого могла бы всерьез полюбить, обнаружила в Димке загадку абсолютной ясности и простоты его нрава, а непроявленность его мужского влечения к ней ее парадоксальным образом будоражила и заставляла с ним возиться. Ей никогда не приходило в голову оттолкнуть его. Или намекнуть ему, что ничего серьезного между ними невозможно. Тем более что и сама не была в этом уверена.
И потому, когда они, возвращаясь домой, не сговариваясь, прильнули друг к другу, оба испытали одно: сейчас так надо. Сперва они даже не целовались, а совсем недолго касались друг друга губами, пока Аглая не отпихнула Димку с наигранным гневом, неизменным атрибутом начала физической близости.
В подъезде, где принесенный ими запах зимы смешивался с меланхоличным, спокойным воздухом лестничных площадок, их поцелуи стали отчетливее, даже чуть жестче, а объятия — более крепкими и алчущими чего-то недостижимого. И если бы их не спугнул некто вызвавший лифт на одном из верхних этажей, кто-нибудь из них выдавил бы из себя заветное «люблю».
На прощание он огорошил ее:
— Забыл тебе рассказать. Сегодня Арсений приехал.
Арсений
Одиннадцать лет Арсений не был дома. За это время еще два места претендовали на то, чтобы стать ему приютом: квартира на Куйбышева в Питере, где они прожили с отцом почти шесть лет, и теперешняя его «однушка» на Лесном. И там, и там он обустраивался вполне сносно, даже привязывался к стенам, вещам, цвету полов, узорам на обоях, но нигде не пахло так, как дома. Особенную остроту и пленительность этот запах обретает, когда возвращаешься откуда-то издалека после недолгой отлучки. Ведь из дома нельзя отлучаться надолго. А Арсений отлучился.
Одиннадцать лет.
Всего две единички рядом.
К ним еще можно добавить полтора года предшествовавшего им ужаса, когда дом потерял все свои домашние качества, выплюнул из себя уют, превратившись в место распада, в место умирания. Почему дедушка не воспрепятствовал нарастающей трагедии, не отсек ей голову, не лишил ее поводов для продолжения, не вернул все так, как было? У него бы получилось. Мощь и крепость его нрава сотворили бы чудо. Мать бы раскаялась, отец бы простил. Или наоборот. Потом, во время одной из их московских тайных встреч, неизменно светлых и пронзительных, Арсений решился на то, чтобы это прояснить. Дед помрачнел, потом посмотрел на Арсения с обидой, взглядом сообщая ему, что он не имеет права на такой вопрос, но все же вымолвил:
— У меня было два варианта: или активно вмешаться в жизнь твоих родителей, — чего я, кстати, никогда сознательно не делал, — но тогда твоя бабушка все бы поняла, и это отравило бы всю ее оставшуюся на тот момент уже очень короткую жизнь. Я надеюсь, ты не осудишь меня за то, что я выбрал второй. И она ушла от нас с ощущением, что оставляет дочь, зятя и внуков внутри счастья, для которого она, как ты знаешь, немало сделала.
Больше Арсений к этой теме в разговорах с дедушкой никогда не возвращался. Сильно корил себя за то, что тогда так расстроил Льва Семеновича. Наверное, дед рассчитывал на его большую чуткость. А он…
Арсений, конечно, любил бабушку. Обычно, взрослея, люди не способны восстановить впечатления раннего детства, но он с почти неправдоподобной отчетливостью помнил ее возню с ним, когда он был беспомощным крохой, то, как она брала его из люльки, качала, напевала, шептала что-то успокаивающее, ее постоянное неумеренное беспокойство о нем, ее звонкий, совсем молодой голос, искусно подражающий разным героям, когда она читала ему сказки, ее напускную строгость к его режиму, которую она полагала абсолютно необходимой для воспитания мальчика. Он не верил, что она умрет. Даже когда диагноз превратился из тревожного в зловещий. Не верил, и всё. Бабушка будет всегда. Как без нее?
Иногда, спустя годы, он мысленно благодарил мать за то, что она не пустила его и отца на похороны Марии Владимировны. В силу этого он до сих пор мог убеждать себя, что бабушке лучше там, где она сейчас. Иногда он мучился вопросом: дед тоже хотел, чтобы они с отцом не присутствовали на похоронах бабушки? Или не в силах был противостоять? Спросить его об этом? Нет.
Но он так дорожил каждой минутой их редкого общения, что портить их больше не собирался.
Бабушка там, где ей хорошо. Остальное не имеет значения.
Бабушка ушла. Дед остался. Арсений находит в себе силы жить и мириться с тем, что существует, только зная, что дед в одном с ним мире. Дед — это его опора. Пока он жив, есть уверенность, что его кто-то хранит, кто-то оправдывает его жизнь, его будущее. А будущего не знает никто. И если уж обозначать цель жизни человека, то она прежде всего в том, чтобы делать грядущее лучше прошедшего.
Как только он начал заниматься музыкой, они с дедом превратились в одно целое. Одна часть этого целого беспрерывно возрастала по мере взросления Арсения, а вторая не уменьшалась, нет, она истончалась до полного слияния со вселенной, где нет никаких звуков, кроме музыкальных, до абсолютной открытости, когда все твои мысли и прозрения не только твои, но и другого.
Всего этого много лет как нет. Ведь то, чем в этом целом был Арсений, застыло, обесцветилось, помертвело, и он никак не может собрать в себе человеческий состав, способный возродить его к жизни. И с каждым годом шансы тают, с такой же неизбежностью, как лед весной на Неве. Он уже не ученик. Публику на сольном концерте не заставишь стоять за дверью, как комиссию в консерватории. Но если он договорится где-то о сольном концерте, хоть в какой-нибудь музыкальной школе, и не справится со своей болезнью, это будет окончательный приговор. Самому себе. Всей его жизни.
Ладно. Арсений постепенно, осторожно высвобождался из власти сна и возвращался к реальности, к тому, где он и что ему следует делать.
Как там отец? Надо позвонить врачу. У врача мрачная, какая-то церковная фамилия. Да и имя с отчеством немного чудные. Почти экзотические. Плохо запоминающиеся. Он с ним не общался. Его имя назвали в справочной и велели справляться у него по телефону о состоянии больного.
Он записал номер на каком-то первом отыскавшемся клочке бумаги. Потом положил его в карман брюк. Ну да, а куда же еще? А если он случайно где-нибудь выпал? Только бы он не пропал. Этого еще не хватало. Надо срочно удостовериться, что листочек не потерялся.
Арсений вылез из-под одеяла, пахнущего душноватым и наивным уютом, стянул со стула брюки, сунул руку сначала в один карман, потом в другой и наконец вытащил сложенный вдвое неровный листок. Развернув его, обрадовался: Отпевалов Вениамин Аполлинарьевич. И ряд цифр. Надо звонить.
Он оттянулся до телефона, набрал номер.
Долгие длинные гудки.
Его босые ноги впитывали прохладу паркетного пола. Тапочки, которые ему утром дала мать, как назло, не попадались на глаза. Наверное, под кроватью. Он нагнулся, пошарил рукой. Так и есть.
Вспомнилось, что Светлана Львовна предлагала ему перед сном пижаму. Интересно, какая же это пижама? Неужели его? За столько лет она не избавилась от его вещей? Ждала, что он вернется… Как-то не складывалось все это в голове в единую картину: мать никогда не искала его, но хранила его вещи? Между тем холод уже запустил по телу мелкие мурашки.
Зря он отказался. Пижама сейчас бы не помешала.
Рубашка, брюки и свитер, нежно обнимавшие спинку основательного стула, напоминали ему о том, что здесь он гость и ему когда-нибудь предстоит одеться и уйти…
Может, крикнуть мать и все же попросить какую-нибудь домашнюю одежду? Димка, похоже, по росту такой же, как он, и наверняка у него что-нибудь имеется. Может быть, она Димкину пижаму и имела в виду. И не стоит ничего придумывать?
— Мама! — получилось неожиданно громко. Непрочная тишина квартиры покачнулась от этого звука, как от мощной волны, а сам Арсений словно столкнул внутри себя под откос давно стоявший на запасном пути поезд.
Сколько лет он уже не звал ее!
Пространству вокруг него потребовалось некоторое время, чтобы вобрать в себя его крик, а потом, будто из небытия, вернуть его негромкими фортепианными звуками «Мимолетности» Сергея Прокофьева.
Арсений, как был в майке и трусах, встал и как загипнотизированный пошел на это чуть неуклюжее чередование аккордов, быстро поняв, что дед играет не на своем рояле в кабинете, а на его пианино, стоявшем в гостиной. Инструмент идеально настроен, отметил Арсений. Значит, кто-то заботился о нем все эти годы. Старый Норштейн неспроста выбрал именно этот прокофьевский цикл.
Эта первая «Мимолетность» давным-давно, как раз в год, когда родился Димка и они с дедом невольно отделились от другой, всецело занятой малышом части семьи, никак не получалась у Арсения. Мудрый педагог Артобалевская задала Арсению несколько пьес из цикла, планируя, что он сыграет их на школьном концерте в честь 8 Марта и что это даст ему новый толчок в осмыслении музыкального пространства. Арсений быстро справился с прокофьевскими квазивиртуозными штучками, играл бойко и пламенно, гармонично вплетая в музыкальный пир солнечного маэстро характерный сдержанный лиризм. Но только самая первая вещь никак не давалась. Особых технических каверз она не таила, но форма все время разваливалась, особенно в начале. Как Артобалевская ни билась на уроке, все впустую. Какая-то незримая преграда мешала мальчику проникнуть в музыкальную тайну первой «Мимолетности».
Лев Семенович, конечно, слышал, что Арсений что-то не то творит с прокофьевскими замыслами, но полагал, что феноменальная музыкальная интуиция мальчика выведет его из этого лабиринта невнятицы.
Уже до концерта в честь Международного женского дня оставалось совсем чуть-чуть, а «Мимолетность» все ускользала из-под пальцев Арсения, улетая от него на такое расстояние, с какого он не мог ее различить, вобрать в себя во всей прихотливости аккордов, ангельской суеты сбивчивых мотивов, своевременности подголосков, тембровой полифоничности насыщенных нотных пластов.
И вот однажды дед, прямо посреди его домашних занятий, положил ему руку на плечо и предложил пойти прогуляться. Арсений недоуменно вскинул брови, запротестовал, мол, нет времени, концерт на носу, но Лев Семенович настоял.
Тьма с привычной усталостью конца зимы уже воцарилась в вечной советской столице, воцарилась не как тиран, а как просвещенный монарх, оставив своим подданным белый свет фонарей, вялые проблески несколько сиротских и чересчур громоздких витрин, приглушенный свет домашних окон как надежду на грядущую весеннюю демократию. Снег в том году скукожился непривычно рано и затаился в своей, в черных оспинках, болезни во дворах, в углах домов, в основании своенравных городских возвышенностей. С одного из таких возвышений спускался их дом. Арсений, когда был маленький, даже удивлялся, почему дом не съезжает с этой горки, пока отец не объяснил ему, что есть такая наука — градостроение и она все всегда предусматривает.
Дед и внук, выйдя из подъезда, свернули налево и сразу оба чуть не полетели на коварно скользком предвесеннем асфальте. Не ясно, кто кого удержал, дед внука или внук деда, но оба в итоге все же устояли на ногах и взаимно напутствовали друг друга в последующей осторожности.
Миновав край дома, они прошли красивую, но безбожно заброшенную церковь с нелепой табличкой около входа «Исторический архив». Чуть левее, через дорогу, темнело здание Телеграфа, отталкивая от себя вечерний шелестяще-влажный воздух казенным освещением из громадных окон.
Дед не произносил ни одного слова, а Арсений послушно ждал. Он никогда не торопил взрослых, если догадывался, что они собираются поведать ему нечто важное.
Между тем Лев Семенович остановился, задумался, поглядел в сторону близкой улицы Горького, где перемещались люди в основном с опущенными в землю глазами, куда-то мучительно спешащие и ничего вокруг не замечающие. Показалось, что он чуть отшатнулся от этой человеческой неостановимой бессмыслицы и пошел в противоположную сторону. Арсению подумалось, что если бы он остался стоять, дед не сразу бы и заметил…
Улица Огарева обрастала своими домами постепенно, в разное время. После 1917 года новая власть приспосабливала старые городские усадьбы со всеми их флигелями под свои нужды, иные превращая в дома с многонаселенными коммуналками, а другие в гражданские и военные учреждения. Вдали улица Огарева упиралась в улицу Герцена, и в перспективе могло показаться, что это тупик.
— А в какой тональности написана первая «Мимолетность»? — вдруг спросил Лев Семенович, словно его обуял приступ склероза и он не в состоянии вспомнить то, что прекрасно раньше знал.
— Почему ты спрашиваешь, дедушка? — Арсений с тревогой впился глазами в упрямый профиль. — Ты что, забыл? Во фригийском ми миноре.
— А ты в этом уверен? — Лев Семенович, не замедляя шага, повернулся к Арсению и подмигнул ему с дурацкой, как почудилось Арсению, фамильярностью.
Мальчик сосредоточился: что имеет в виду его дед, композитор, знавший Прокофьева лично, разбирающийся в его музыке лучше, чем в чем-либо другом? Сергей Сергеевич поделился с ним какой-то тайной? Но какой? Ми минор. Фригийский. Он стал представлять в голове музыку. Почти уже ненавистную ему, никак в него не вмещающуюся и этим причиняющую боль.
— А тебе не кажется, что ми здесь не только первая, но и пятая ступень? — Лицо Льва Семеновича приняло почти победоносное выражение.
Арсению потребовалось несколько секунд, чтобы смириться с услышанным…
— Это двутональная тема… Она и в ля, и в ми… Все переменчиво. Понимаешь?
Арсений не понимал, но очень хотел понять…
— А как ты думаешь, почему? — Дед говорил как артист, словно в него вселились тени артистов МХАТа, когда-то живших в этом переулке, в доме 1а, называемом «Сверчок», в память о мхатовской постановке по роману Диккенса «Сверчок на печи».
Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей. Вас я не зову!
— Так себе стишки, как теперь кажется. Да и Бальмонт, эмигрант, полушарлатан… — дед вдруг осекся, как будто испугался наговорить лишнего. — впрочем, дело не в Бальмонте, а в том, что именно эти его стихи вдохновили Прокофьева на цикл. Ты вообще представлял себе время, когда это сочинялось? Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый год! Война, все неустойчиво, все живут как по инерции, но эта инерция иногда такая мощная, что невозможно остановиться. Все впечатления мира потеряли логику и связь друг с другом. Все по отдельности. Все неуверенно. Все походят на младенцев, толком не осознавших, что родились, но уже что-то бормочущих. Почва уходит из-под ног. И скоро уйдет совсем. Одной тональности нет. Это никакой не фригийский ми минор. Это и ми, и ля. И в то же время не ми и не ля.
Ни до, ни после того вечера Арсений не помнил деда таким отчаянно убедительным. Пока они шли по Герцена, чтобы повернуть на Нежданову и замкнуть круг прогулки, дед еще вспоминал, как они любили тут гулять с бабушкой, когда только познакомились, в 1924 году. Но это он уже говорил не для него, а для себя. Видимо, чтобы успокоиться.
Дома Арсений наконец сыграл первую «Мимолетность» как надо, с ощущением тревоги, которая, борясь с собой, к концу пьесы становится новой сияющей простотой.
Это была их общая музыкальная победа. Настоящая, заслуженная, с тем чувством удовлетворения, когда немножко покалывает в животе, а грудь стиснута счастливым присутствием чего-то нездешнего.
И вот теперь, спустя столько лет, дед опять заиграл эту первую «Мимолетность».
Арсений аккуратно присел в кресло за спиной играющего старика. не по-стариковски выглядит сзади его фигура: спина прямая и не напряженная, плечи не дряблые, шея — с ровной окантовкой седых волос — благородно высокая, прямо для стоячего белого воротника концертной рубашки. Закончив первую «Мимолетность», Лев Семенович снял руки с клавиатуры, повернулся к Арсению и, хитро прищурившись, спросил:
— Я тебя разбудил?
Потом, изменившись в лице и резко поднявшись, почти вскочив:
— Ты же так замерзнешь? Я тебе сейчас что-нибудь принесу…
Арсений сидел, поеживаясь; странный, не холодный озноб волнами бежал по его телу, но это являлось свидетельством не болезни, а волнения, причем волнения исцеляющего. Музыка Прокофьева, насыщенно-нежная и по-человечески цельная, сейчас соединила в нем тот февральский день 1968 года, когда они с дедом кружили между улицами Горького и Герцена, с сегодняшним, в котором горечи было хоть отбавляй, но прокофьевская двутональность понемногу эту горечь исчерпывала.
Он вдыхал запах мебели, ковровой пыли, обоев и робко, сам себе веря, твердил про себя: я дома! Дед между тем орудовал в шкафу, то доставая, то убирая обратно какие-то вещи. Наконец нашел черный, весьма новый на вид с белыми полосочками на брюках и свитере спортивный костюм.
— Вот! Твоя мама подарила мне его пять лет назад, на семидесятипятилетие, но я его так и не надевал. Мне кажется, тебе будет по размеру…
* * *
— К чему придумали эти чайники со свистком? — без всякого раздражения посетовал Лев Семенович. — Такой отвратный писк. Но Светлана в восторге от него. Говорит, на редкость удобная вещь. Необъяснимо.
Они с Арсением уже в третий раз кипятили воду: все никак не могли наговориться, все никак не могли напиться чаю.
— Дед, а ты до сих пор каждое утро приседаешь немыслимое количество раз?
Арсений в извлеченном из гардеробного небытия спортивном костюме походил на члена какой-нибудь советской сборной в отпуске.
— А как же! — Дед разливал кипяток по чашкам, куда до этого плеснул насыщенной и пахучей заварки. — Ровно столько раз, сколько мне лет. Так положено…
— Ну ты титан! — Арсений бросил в кружку два прямоугольничка кускового сахара.
Предложение деда побаловаться на кухне чайком Арсений воспринял с энтузиазмом. Он действительно озяб. Выпить чего-нибудь горячего явно лишним не будет.
Окно в кухне, единственное в их квартире, выходило в то хаотичное скопление невысоких строений между их домом и домом на улице Горького, которое и двором-то не назовешь. Войдя вслед за дедом на кухню, Арсений приник к изрисованному морозом стеклу и засмотрелся вниз. Контуры непонятных кургузых зданий, около которых, сколько себя он помнил, гужевались окутанные табачным дымом дворники, грузчики, официанты, повара и прочая обслуга ресторана Дома композиторов, сверху смотрелись не так нелепо, как если мимо них приходилось проходить, и даже содержали в сочетании своих линий намеки на некоторую гармонию. Сейчас на их низких крышах плотно лежал снег, выравнивая и исправляя просчеты тех, кто все эти безобразия проектировал. Как давно он не наблюдал этой картины! Помнится, в Доме композиторов служил пожилой вахтер Григорий, питавший к маленькому Арсению удивительную любовь, приводившую к тому, что у мальчика в карманах неизменно скапливались разные сосалки и ириски. Интересно, он еще жив? Надо спросить у деда.
На вопрос Арсения о судьбе вахтера Лев Семенович ничего толком не ответил, сказал только, что давно его не видел.
Нынешний длинный, как многочастное произведение, разговор деда с внуком разительно отличался от тех, что они вели при своих тайных встречах в эти одиннадцать лет. В тех жило что-то незаконное, неправильное, порождающее недоговоренности, сводившее все к простой идентификации факта общения, к констатации того, что им еще есть о чем поболтать. Теперь же они могли обсудить все, что хотели, без страха, что это станет известно Светлане, без ужаса, что по каким-то причинам они перестанут иметь возможность видеться.
Первым делом без обиняков Арсений выяснил у деда, как развивались события, пока он спал.
Лев Семенович весьма подробно описал внуку, как мать звонила в Бакулевский, как нервничала перед этим звонком, как в итоге ей там сказали, что Олега перевели в общую палату и завтра его можно будет навестить. Старому композитору надо было, чтобы Арсений зацепился за эту информацию и так, потихонечку, шаг за шагом, восстанавливал в себе образ потерянной матери, потерянной семьи, потому что, не создав сперва что-то внутри, как за всю свою жизнь убедился Норштейн, невозможно сотворить что-то путное во внешнем мире.
— Она собирается его посетить? — Арсений вдруг разволновался: не в слишком ли сильный шок превратится для отца это возможное посещение той, которая в свое время изгнала его.
— Пока попросила, чтобы мы втроем, я, ты и Дима, съездили к нему. Сама вроде пока осторожничает.
— Прямо попросила? Какая прелесть! — все одиннадцатилетнее варево обиды заклокотало в Арсении и чуть не выплеснулось в нечто оскорбительное, но он сдержался.
— Не будь строг к ней чересчур. Жизнь и так к ней не так уж милосердна.
— А где она сейчас?
— Пошла к Генриетте. Ты же помнишь Платовых…
— Нельзя было перенести?
— Ты должен ее понять. Твое сегодняшнее появление произошло так внезапно. Генриетта — ее самая давняя подруга. Возможно, ей необходимо с ней поделиться. Думаешь, она не переживала все эти годы?
Арсений горестно покачал головой: знал бы дед подлинную причину их семейной драмы, причину по имени Волдемар Саблин. Интересно, он уже вышел на свободу? Сколько ему в итоге дали? Наверное, если поискать, то у матери целая связка его писем. А жив ли он вообще? В своих нечастых, но яростных размышлениях о пропагандисте «Архипелага ГУЛАГ», пойманного на этом и привлеченного к ответственности, Арсений никогда не рассматривал возможность того, что он уже мертв. А ведь не так уж это и невероятно.
Вспомнив о Саблине, о тех днях, когда он случайно из окна котельнической высотки увидел его идущим с мамой по Большому Устьинскому, о своем тогда горячечном состоянии и о посещении Владимирского отделения КГБ, Арсений расстроился. Не из-за того, что эти воспоминания возвращали его к тому отчетливо ужасному, что гонишь от себя при любом намеке, — пожалуй, он не ответил бы сейчас на вопрос, кто ему был более омерзителен: сломавший его семью Саблин, владимирские бабушки-стукачки, донесшие о его интересе к злосчастному Волдемару в органы, когда он пытался его разыскать, или же похожие на строгих кукол, опасно вежливые офицеры КГБ, мурыжившие его на допросе почти шесть часов, — просто он понимал: если позволит сейчас этим обесцветившимся, но не потерявшим угрожающую жестокость образам всплыть из дальних уголков памяти, куда он их так усердно заталкивал все эти годы, беды не миновать: сила этих проклятых прошлых обстоятельств может снова вытолкнуть его из родного дома. А этого позволять нельзя. Без боя нельзя сдаваться. Коль уж он пришел сюда.
Изменившееся ненадолго выражение лица Арсения Лев Семенович истолковал как признак недоверия к материнской искренности и поспешил его разуверить:
— Мне почему-то кажется, что она завтра с нами пойдет в больницу.
Когда люди вынужденно перестают бывать вместе столько, сколько это им необходимо, все силы обычно уходят на то, чтобы не терять друг друга из вида. В этом стремлении не оторвать от сердца того, кто тебе важен, чаще всего не остается пространства для того настоящего интереса к отдельной от тебя жизни близкого человека. Главное — не позволить течению дней и лет уничтожить эту близость, постоянно затверждая ее звонками, встречами, письмами, полными вопросов о здоровье и о делах, на которые никто толком никогда не отвечает. Темой разговоров Арсения и Льва Семеновича во время их тайных встреч в Москве все эти одиннадцать лет оставалась музыка. Все годы, кроме последних двух, Арсений играл деду вновь выученные произведения, а дед высказывал свои соображения. Один раз, когда Олег Александрович приезжал с Арсением в Москву, они обедали в ресторане Дома литераторов, но за едой, как известно, люди говорят лишь о необременительном. После своего вопроса-претензии, почему дед не вмешался и никак не противостоял семейной катастрофе, Арсений не возвращался к этой теме, страшась разворошить этот загрязнивший всех членов их семьи сор, а Лев Семенович в свою очередь никогда не заводил разговор о сломанном пальце и обо всем, к чему это привело.
Два года Арсений не приезжал в Москву, два года он не разучивал ничего нового — все бесполезно! — а Лев Семенович все эти два года терзался от этого. Неужели внук устал и сдался, и всю жизнь будет аккомпанировать другим, забирающим всю славу и успех, оставляющим его на заднем плане? Это не его судьба, он вундеркинд. Иногда Лев Семенович просыпался ночью, будто от какого-то укола, и долго лежал, не в силах смириться со своей беспомощностью.
И вот теперь они чаевничали на кухне. Там, откуда с уходом Олега Храповицкого из супружеской спальни на одинокий диван начался ползучий, обретающий с каждым днем злую силу их кошмар, им предстояло принять друг друга с добавлением прожитых врозь одиннадцати лет, о которых они по большому счету, несмотря на запретное общение, все же взаимно не ведали, и попробовать что-то изменить к лучшему.
Разумеется, Арсений не собирался посвящать деда во все, что творилось с ним в Ленинграде: слишком много в нем скопилось взрослого, чего дед вовсе не обязан одобрять. Искренность их прежних отношений в его школьные годы определялась существованием в одной стихии, где все события не происходят, а звучат. Другой жизни у Арсения тогда и не было. Так, чепуха. Общение с одноклассниками, с соседями по дому, какие-то утомительные подростковые забавы с композиторско-музыковедческими отпрысками в Доме творчества композиторов в Рузе, куда дед и бабушка обязательно возили его летом на месяц, опекунская возня с младшим братом. Когда ему подошел срок в кого-нибудь влюбиться, отец подписал то письмо против Сахарова и Солженицына, все сдвинулось, перепуталось, сломалось, и это закупорило все его эмоции в прочной колбе разочарований, вынудило делать только то, на что хватает сил, а именно заниматься, заниматься, заниматься, готовиться к конкурсу Чайковского.
После их с отцом переезда в Ленинград, после первых месяцев неуемной тоски, пока город продирался к нему, а он к городу, пока его естество приготавливалось к первой взрослой смене действия и декораций, жизнь накинулась на него с такой рьяностью, как накидываются билетеры на опоздавших на симфонический концерт.
Замечает ли дед, как он изменился?
Но Льва Семеновича больше волновало другое. Ведь и он, как это ни нелепо звучит в его возрасте, многое поменял в себе, и, скорее всего, не к лучшему. И при встречах с Арсением прилагал немало усилий, чтобы внук не заподозрил, что его дед-композитор теперь и не композитор никакой и уже много лет ничего не сочиняет. И дело здесь не в старении. Тогда, до отъезда Арсения, он еще совсем недавно закончил большую симфонию с хором «Памяти Брукнера», которую с блеском исполнил оркестр Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина, и собирался приступить к работе над произведением, которое, как он загадывал, станет для него главным: двойным фортепианным концертом по мотивам «Героя нашего времени» Лермонтова. Какой был замысел! Каждая часть концерта симметрична части романа. А между частями речитативный акапельный хор исполняет куски просто-таки сотканной из звуковых аллюзий лермонтовской прозы. Куски он подобрал. Но они не пригодились. Замысел так и не воплотился. Он собирался посвятить концерт жене, наивно полагая, что это если не спасет, то продлит ей жизнь. Но Маша умерла раньше, чем он закончил в эскизах первую часть, семья взорвалась, как атомная бомба, да еще и Кирилл Кондрашин бежал за границу, где четыре года назад умер. Кирилл, как никто, тонко и согласно авторскому духу интерпретировал музыку Норштейна. Но записи его почти все под запретом. Даже когда передают знаменитый концерт Ван Клиберна в Москве, о Кондрашине не упоминают, будто оркестр играет сам, без дирижера.
Уже немалое время он живет под гнетом бессмысленности бытия современных композиторов, ненужности и заведомой вторичности нынешней музыки. Его жизнь — это приседания утром, прогулки вдоль дома — вниз до Огарева, а потом вверх по Неждановой, — тревоги за младшего внука, сидения у вечернего бестолкового телевизора вместе с дочерью, ведущей с экраном бурные диспуты, и упорные попытки отвлечь себя от мысли, что то, как он и чем он живет теперь, продлится до самой его смерти, не принеся больше ничего нового.
«Как мне надо всем этим поделиться с Арсением! Но своевременно ли это? Не поселит ли это в нем презрение? Не разочарует ли его?» — сомневался Лев Семенович.
«Как жаль, что я уже два года ничего нового не учу. А то бы сейчас сыграл деду. Но зачем? Я неудачник. Не могу выбраться из того, что не пускает меня на сцену. И так будет всегда. Деду лучше не знать об этом», — уговаривал себя Арсений.
И все же они выплеснули друг другу все, что тяготило. Слишком уж полны они были этим. И испытали облегчение…
И ничего больше.
1949
Водку закусили черным хлебом с солью. «Как на кладбище». — Лапшин был единственным, кто от водки отказался. После той новогодней ночи он к спиртному вообще не прикасался. Ужасное воспоминание первого январского дня, когда он, проснувшись на Зеленоградской, испытал снова острейшую необходимость в морфии и с огромным трудом взял себя в руки, не позволяло ему больше впускать в себя ничего, что могло бы это воспоминание оживить, вызволить из той части памяти, где, как сухие, никому не нужные листья в собранных дворниками высоких кучах, томятся наши прошлые кошмары.
Франсуа, как и все, выпил залпом, что сыграло с ним злую шутку. Он закашлялся так, что Генриетте и Вере пришлось его сильно колотить по спине. Именно за этим занятием их застала вошедшая в комнату Людмила Гудкова, предмет их коллективных жгучих тревог.
— Чем это вы здесь занимаетесь? — удивленно спросила она.
Нескольких секунд хватило, чтобы настороженная, непонимающая тишина перешла в радостные восклицания.
До Людмилы как будто не доходило, почему ее все обнимают, целуют, усаживают за стол, наливают водки.
— Я не хочу сейчас водку. Зачем вы мне наливаете? — воскликнула она. — И что вы все здесь делаете?
— Это я всех пригласил. Мне показалось, сейчас это необходимо, — примирительно ответил Франсуа.
— И как ты их всех нашел? — не успокаивалась Гудкова. — Я просто поражена.
— У тебя в записной книжке были адреса. Прости, я не предполагал, что ты так расстроишься…
Гости начинали себя чувствовать с каждой секундой этого допроса все более неловко. А Шнеерович, никогда не теряющий склонности к афоризмам, особенно к нелепым, про себя съязвил: только что ее допрашивали, теперь она допрашивает.
— Это мы с папой посоветовали Франсуа так поступить, — подала голос Света Норштейн. — Раз такое случилось, лучше всем собраться вместе. Разве нет?
— А какого черта ты решаешь, кого позвать ко мне в дом? Позвала бы их к себе, раз такая сообразительная. Там бы и сидели. Или папа не разрешил? — Гудкова больше не сдерживала себя.
Света прищурилась, встала, выпрямилась и по слогам произнесла:
— Хорошо. Впредь буду так и делать.
Потом порывисто махнула рукой, сетуя на что-то или на кого-то. Получилось неуклюже. Ее это еще больше раздосадовало. И она выбежала из комнаты.
Через несколько секунд громко хлопнула входная дверь в квартиру.
— Ну, наверное, и мы пойдем, — поднимаясь, сказал Лапшин. — Слава богу, ты жива и здорова. Прости, что потревожили тебя.
Он давно искал повод уйти.
Людочка взглянула на бывшего одноклассника растерянно. Видимо, ей казалось, что после того, сколько она для него сделала и как ради него рисковала, он не станет вести себя столь примитивно и хотя бы попробует проникнуться ее чувствами. Она показала Шуре рукой, чтобы он сел. Показала весьма властно. Лапшин повиновался. Затем Гудкова нарисовала пальцами в воздухе прямоугольник, а потом изобразила рукой, что что-то пишет. Так она просила дать ей бумагу и ручку. Пока Франсуа искал, чертыхаясь, то, что требовала его будущая супруга, Генриетта посетовала:
— Зря мы так со Светой. Она хорошая. Очень хорошая. Надо было догнать ее. Может, я посмотрю? Вдруг она где-то еще здесь…
— Да уж дома она, — осекла приятельницу Прозорова. — Она же живет напротив. Чего ей на улице ошиваться в такой холод?
Генриетта не стала возражать.
Франсуа наконец нашел какие-то тетрадные листы, извлек из шкафа чернильницу и перо. Люда размашисто и крупно, чтобы все сгрудившиеся вокруг нее могли прочитать, вывела: «Дома говорить небезопасно. Пойдем гулять…»
Все очень тихонько вышли в прихожую и начали одеваться. Страх и напряжение заставили их на миг поверить, что слишком шумные шаги и громкое одевание — почти преступление. Из своей комнаты высунулся сосед-инвалид, но, столкнувшись с таким количеством народу, убрался.
С кухни слышались звуки напряженного коммунального разговора, грозившего скоро перерасти в ругань.
Ступени лестницы серели от следов мокрых ног, перила неярко поблескивали от тусклого света ламп. Кто-то хлопнул дверью внизу, и стекла на площадках задребезжали.
Вскоре компания вывалилась в Борисоглебский. Все как-то замялись, не ведая, что теперь делать. Потом побрели гуськом, друг за другом, в сторону Гнесинского института. Людмила и Франсуа под ручку шествовали впереди.
Шел мелкий, по-городскому неконкретный, заставляющий отворачиваться от себя снег.
Наконец пробрались в какой-то двор, пустынный и тихий. Уселись на покосившейся скамейке, в спинке которой недоставало двух досок. Тут же к ним присоседились озябшие голуби и принялись вопросительно прохаживаться в неком отдалении в ожидании, что им что-то перепадет. Шнеерович вспомнил, что по дороге к Гудковой он купил сдобную булку и так ее не съел. Пернатым посчастливилось заполучить отменное лакомство, которое они поглощали с тихим клекотом, смешно толкаясь.
Гудкова присела на лавку. Остальные сгруппировались вокруг нее, словно закрывая от возможных соглядатаев. Люда чуть картинно провела рукой по лицу, потом попросила дать ей закурить. Быстрее всего папиросу вытащила Платова.
— Евгений арестован за антисоветские выступления. Где-то в Черновцах он что-то нагородил публично. Теперь органы разрабатывают его связи. Все мы под большим ударом были. Я отвела его как могла… — она поморщилась, всхлипнула, глубоко затянулась, закашлялась.
Франсуа нагнулся к ней, взял руками за щеки, повернул ее лицо кверху:
— Тебя пытали? Скажи, скажи. Я этого так не оставлю.
Люда силой убрала его руки и вскрикнула:
— Нет, нет! Ты что? Не вздумай вмешиваться в это. Тебя вышлют. В один миг. И объяснять ничего никому не станут.
Франсуа пристыженно отошел на шаг. Шнеерович в это время часто бил себя в грудь и причитал: «Какой ужас, какой ужас все это… какой ужас…»
Лапшин переминался с ноги на ногу и смотрел на бесприютную московскую землю.
Платова тоже закурила. Дым выпускала, чуть выпячивая нижнюю губу и выдувая кольца вверх.
— Не глупи, умоляю. — Гудкова продолжала наставлять Франсуа. — Ты уже наломал дров. Неужели ты не понимаешь, что собрать сегодня всех у меня — крайне неосмотрительно? Это почти признание коллективной вины. Не надо было идти на поводу у этой вздорной девицы. — голос Люды вдруг зазвучал жалобно и бессильно.
— Света хотела как лучше. Она очень искренняя. — Платова подала голос в защиту подруги.
— Не знаю, не знаю. Следователь так подробно мне пересказывал многие наши беседы.
— Что? — Франсуа, Платова, Прохорова и Шнеерович вскрикнули это почти одновременно.
— Не знаю, что! У кого-то язык слишком длинный. Не у этой ли болтушки Норштейн? И как-то уж подозрительно она себя вела сегодня. Вам не кажется?
Тишина на время установилась такая, что чудилось, слышалось трение снежинок о воздух. Хотя, конечно, никакого звука это трение не издавало. Просто поздняя осенняя пора накопила в себе целую прорву тоски и эта тоска протяжно и безнадежно ныла и в городских ландшафтах, и в головах людей.
— Люда права, — начала Прозорова, — наш сегодняшний сбор могут истолковать как признание вины. Времена сейчас сами знаете какие. Евгений по матери еврей. А борьба с космополитизмом идет полным ходом. Вон Шура с Мишей из консерватории вылетели.
— Тем более дико в чем-то обвинять Светлану, — Генриетта затушила папиросу о край лавки и, не найдя взглядом урны, щелчком отбросила окурок в снег. — Она добрая девочка. Немного экзальтированная, но не более. Им сейчас всем нелегко. Мама мне рассказывала, что у них в Минздраве такое творится! Евреев стараются уволить при любой возможности. Света — студентка. Ей тоже надо быть настороже. Выгонят за фамилию и не поморщатся.
Никто не стал с этим спорить.
Франсуа немного выпятил грудь вперед и вымолвил подчеркнуто бравурно:
— Что бы вы сейчас тут ни говорили, ужин отменять нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже самых печальных. Предлагаю немедленно отправиться в ресторан! В «Метрополь»! Гульнем на славу. Когда еще соберемся все вместе?
— А почему нет? — Прозорова улыбнулась. — Они хотят, чтобы мы их боялись, а мы будем веселиться.
1985
Еще неделю назад Светлану пригласила в гости Генриетта Платова, попить чайку, потрепаться. Их дружба, пережившая немало потрясений, до сей поры не иссякла, хотя порой и прерывалась на неопределенное время. Лев Семенович поначалу не поощрял ее, помня давний отказ матери Генриетты Зои Сергеевны в просьбе устроить Марии Владимировне консультацию у хорошего кардиолога, но с годами острота обиды притуплялась, да и новые обстоятельства почти всегда сильнее старых. Зоя Сергеевна, кстати, в качестве заведующей приемной Минздрава прослужила до совсем недавнего времени. Ей удалось доказать свою незаменимость всем министрам, с которыми доводилось работать. И только совсем уж почтенный возраст побудил ее попроситься на покой. Перед Норштейнами она реабилитировалась в последние годы жизни Марии Владимировны, лично попросив главного онколога страны Николая Блохина содействовать тому, чтобы жена известного советского композитора получила все необходимое лечение. Академик Блохин просьбу выполнил. Светлана питала на этот счет особую благодарность, поскольку друг и однокурсник Волдемара как раз работал в онкоцентре. Он по просьбе Саблина постарался все обустроить так, чтобы ему самому наблюдать и лечить маму, и это почти то же самое, как если бы ее лечил и наблюдал сам Волдемар.
А Волдемар тогда для Светы воплощал все самое лучшее и самое невозможное.
Генриетта как-то поделилась со Светой, что мать очень переживает из-за того давнего отказа, но тогда «дело врачей» разгорелось не на шутку, и все так всего боялись, что она не решилась. Светлана кивала, соглашалась. Не видела никакого смысла все это ворошить. Что уж теперь?
Удивительно, что жизнь никогда не отводила Светлану и Генриетту слишком далеко друг от друга. Ведь чересчур трепетная дружба в юности частенько оборачивается впоследствии полным отчуждением. Ранняя доверительность, слияние душ, обмен мечтами выставляют такие счета, которые невозможно оплатить. И этот долг саднит досадой, — все теперь не так, — разъедает, отдаляет, заставляет искать в других людях все то, что потерялось в сердечных друзьях детства. И поиск этот, как правило, безутешен.
В конце пятидесятых Платовы выехали с Борисоглебского. Сначала они перебрались в однокомнатную квартиру недалеко от ипподрома, а теперь проживали возле метро «Аэропорт», на улице Черняховского, в не очень большой, но очень рационально спланированной «двушке». После выхода на пенсию Зоя Сергеевна еще добилась отдельно для себя однокомнатной квартиры в Бибиреве, позволив дочери и внуку существовать вполне комфортно.
Несмотря на всю разность судеб Светы и Генриетты, то, что они пережили в послевоенной нищей и разрушенной Москве с кутерьмой ее коммуналок и теснотой дворов, объединяло их больше, чем что-либо другое.
Общая память иногда сильнее общих дел.
Конечно, весьма объемные житейские заботы, сваливающиеся на советских дам в тот момент, когда беззаботная юность теряется в дымке прошлого, не позволяли им коротать, как в юности, целые дни в разговорах, но все же, пожалуй, ни с кем у Светланы не сложилось дружбы более короткой, чем с Генриеттой, а у Генриетты так и не нашлось подруги, к которой она питала бы чувства почти сестринские, сдобренные желанием не только делиться чем-то сокровенным, но и передавать свой женский опыт.
И тем не менее Светлана до последнего порывалась отменить сегодняшний визит. Приезд Арсения и его сообщение о тяжелом состоянии его отца подразумевали, что все планы меняются.
Она давно приучилась нести в себе нескончаемое несчастье, разуверившись почти во всем светлом. Уже и мысли не возникало, что ее старший сын поймет ее и вернется домой. Да и Волдемара она, скорее всего, больше не увидит никогда.
То, что окружающий ее мир с какого-то момента решительно отторг ее, иногда даже радовало. Быть счастливой в стране, где худшие без конца побеждают лучших, неприлично; подстраиваться под порядки, выдуманные теми, кто стремится подавить человеческую личность, недопустимо. Пусть ее считают стервой, скандалисткой! Только бы не затягивали в свое стадо!
Так, как подлец Олег утянул Арсения. Временами Светлана даже испытывала удовлетворение от разрыва со старшим сыном. Не исключено, что останься он с ней, а не последуй в Ленинград вслед за своим тряпкой отцом, пропасть между ними только бы увеличивалась. Арсений жил по каким-то своим выдуманным законам, где со злом не вступают в схватку, а пытаются побороть его в себе, улестить его собственной причастностью к мировой гармонии, убеждают себя, что только так и надо. В этом он вылитый дед! Какая чушь! Заранее признавать поражение в битве со злом и не попытаться что изменить. Низко и недостойно.
Она не спрашивала себя, что конкретно изменила она. Ответ мог показаться весьма неопределенным. Но она, по крайней мере, стремилась. Это точно. Она бросала вызов. Да. Не такой уж значительный. Ей далеко в этом до Волдемара. Да и поздно она осознала, что в этой стране на самом деле творится. Может, Арсений тоже прозреет? Нет. Вряд ли. Сколько бы лет ни прошло, он останется в своей музыке, в своих иллюзорных представлениях о мире. Есть люди, способные меняться, но ее сын не из таких. Иначе как объяснить то, с какой легкостью он убедил себя, что отец лучше матери, и до сих пор ничего не пересмотрел? И домой-то приехал только потому, что его отец заболел. Заболей она, его бы никто и не известил, поди.
Любопытно, что в своих рассуждениях об Арсении она не учитывала, что ее сын за те одиннадцать лет, когда она о нем не имела никаких сведений, мог перенести много чего разного и много что пересмотреть.
С Димкой сложнее, продолжала размышлять Светлана Львовна. У него есть шанс дождаться, когда этот человеконенавистнический режим рухнет. Ведь, как говорил Волдемар, советского гноя уже так много, что скоро он начнет истекать. Мальчика надо успеть подготовить ко всему. К тому, что он застанет совсем другую жизнь. Но как? В воспитании младшего сына она металась, то полагая, что надо насытить его детство всевозможными удовольствиями, то бросаясь в другую крайность, намереваясь строгостями и запретами вырастить в нем бойца. К сожалению, для нее и к счастью для Димы, ни того ни другого у нее не выходило до конца, да и Лев Семенович многое, по мнению Светланы, портил, тихо, но настойчиво распространяя свою опеку над внуком. В связи со всем этим Дмитрий рос вполне нормальным парнем. Не избалованным и не забитым. С ним было удобно всем, кто находился рядом. Возможно, из-за того, что с раннего детства он принял за правила вести себя так, чтобы ничем не затронуть мать и не вызвать в ней позыв к неконтролируемым действиям.
Увидев Арсения в дверях, она сначала испытала шок, а потом в ней включились некие рефлексы, которые она не особо контролировала. Она вела себя с сыном так, как ведут себя с любым гостем, — раздеть, предложить тапочки, угостить чем-нибудь. Но вот беда: Арсений — не гость. Он ее сын. И привела его в дом на Огарева не тоска по ней, а желание призвать ее к сочувствию.
Он не оставил ей шанса бросить ему в лицо, что ей наплевать, как себя чувствует его отец.
Он задал ей траекторию, по которой она, хочет того или нет, обязана продвигаться.
После того как она под жаждущими взглядами отца и младшего сына позвонила в Бакулевский институт, куда угодил Олег (естественно, после визита в ЦК партии, куда еще могли вызвать этого верного слугу режима!), она уже собиралась набрать номер Платовой и извиниться за то, что не сможет прийти.
Но потом представила, что Генриетта сразу примется выяснять причину, и, наверное, лучше ей все рассказать лично, чем пересказывать по телефону.
Арсений все равно спит.
* * *
Отдельная палата в Бакулевском институте сердечно-сосудистой хирургии больше напоминала номер в пансионате или в курортном санатории. Помимо санузла с душем, имелся цветной телевизор «Юность», правда не работающий, на окне белели свежепостиранные легкие шторы, постельное белье пахло хрустящей свежестью, настольная лампа претендовала на некий особый дизайн, и даже розетки на покрашенных стенах выглядели как-то особенно аккуратно. Другой бы пациент, избавленный от тягот совместного клинического существования, наполненного запахами медикаментов, спертым духом половых тряпок и регулярными малоаппетитными дуновениями больничного общепита, ликовал бы, но Олег Храповицкий пребывал в смятении, всячески пробуя уговорить себя с этим смятением хоть как-то справиться.
Олег Храповицкий не переносил пафоса. Излишний надрыв, сентиментальность, всякого рода напускная «цыганщина» вызывали в нем отторжение. Высшим достижением словесности он считал прозу Пушкина с ее фразовым покоем и исчерпывающей лаконичностью. Из композиторов обожал Гайдна и жалел, что в репертуаре сына произведений этого родоначальника венской школы совсем немного. Бывало, Арсений сильно дулся на отца, когда тот начинал разглагольствовать о том, что Шопен фальшиво слезлив и, если вместо одного любого пассажа сыграть чуть другой, большой разницы не будет. Однако надо заметить, что Олег Александрович позволял себе такую язвительность в адрес польского романтика лишь в редких случаях — если шел на поводу у своего скверного настроения, которое, в общем, посещало его нечасто.
Он умел владеть собой. Сдержанность считал одной из высших добродетелей. Наверное, поэтому сердце и сдало.
Кто много носит в себе, неизбежно оставляет тяжесть у себя на сердце.
Всю свою жизнь он строил по принципу: чем человек умнее, тем лучше он способен подстроиться под предлагаемые обстоятельства и выжить в них. Количество обстоятельств, которые человек создает сам, ничтожно, в основном ему предстоит справляться с тем, что уже существует или возникает помимо его воли. Индивидуум, учитывающий максимально количество условий, как правило, остается в выигрыше и продвигается по жизни методично и успешно, не принося окружающим проблем и сам этих проблем не обретая. Разрушительных факторов следует избегать, заранее вычислив для себя их опасность. Этот жизненный рецепт ему выписали еще в довоенном ленинградском детстве, в большой коммуналке на улице Воинова, чьи окна выходили на приземистые и вечно чадящие дымом красные корпуса печально знаменитой ленинградской тюрьмы «Кресты». В той квартире бытовали люди самые разные — от ангельских чистоплотных старушек, еще сохранивших в манерах следы воспитания в царских пансионах благородных девиц, до новых советских мастеровых, завоевывающих каждый сантиметр коммунального пространства с такими же яростным боями, какие Красная армия вела с беляками в совсем еще недавнюю тогда Гражданскую. Там он научился выпутываться из любых переделок благодаря тому, что очень хорошо понимал, с кем в каждом отдельном случае имеет дело. Его родителей занесло из родной Польши в Петербург до Первой мировой общим еще тогда имперским ветром. До революции они держали книжный магазин на Литейном, фактически являлись буржуями. Однако весь 1917 год они отдавали свой подвал для хранения большевистских прокламаций то ли из страха, то ли из сочувствия к борцам с не очень всеми поляками почитаемым царизмом. За это новая власть не записала их во враги, хотя и не рассыпалась в благодарностях. Мама, Матильда Станиславовна, работала в библиотеке, где терпеливо рекомендовала, что почитать, жадно овладевавшему грамотой пролетариату, а отец, Александр Бенедиктович, стал служащим нарождающейся советской системы распространения газет и журналов. Наскокам мировых катаклизмов они противопоставляли непробиваемое спокойствие. Их мир на двоих был прочнее любой самой фортификационно безупречной крепости. В нем они обретали неуязвимость.
Детей у них долго не было, о чем они, видимо, особо не жалели, что не помешало им встретить появление на свет их единственного сына Олега с благодарной радостью. Они никогда за все его детство не демонстрировали к нему особой любви, но никогда не срывались на крик, объясняя все, что желали ему объяснить, спокойно и поразительно логично. И малец очень быстро начал преклоняться перед великой силой логики, которая всегда побеждала. Они словно заключили с ним договор, что до определенного времени берут на себя заботы о нем, готовят его к взрослой жизни, а потом он уже отвечает за себя сам. По большому счету лучше всего им было вдвоем друг с другом. Их взаимная любовь бросала отсветы и на Олега, придавая ему уверенность. Они успели эвакуироваться из Ленинграда до начала блокады и всю войну прожили в Ташкенте. К войнам, революциям, советской власти старшие Храповицкие относились как к переменам времен года, соглашаясь с их неизбежностью и никак их не оценивая. После возвращения из эвакуации Олег поступил на филологический факультет в ЛГУ, окончил его с отличием, а потом уехал в аспирантуру в Москву. Договор с родителями закончился полным исполнением всех обязательств обеими сторонами. Олег вырос гармоничным человеком. В меру готовым к жизни. Способным многое принять и не разрушить при этом себя.
Александр и Матильда не одарили сына сильной к ним привязанностью, такой, что мешает жить, постоянно затягивая назад, в детство, но протянули нити уважительный любви, которые не рвутся и на которых много что в этом мире держится.
Единственным событием в жизни Олега, с которым он не смог справиться, была Светлана Норштейн. С первых минут знакомства в день знакомства, когда он поддался на то, что она его разглядывает, и до самого конца их семейной истории он позволял ей проделывать с собой все, что ей надобно, и при этом создавать у окружающих иллюзию, что она слабая, зависимая от мужа женщина. До поры до времени их счастье было системным. А потом все нарушилось, сбилось, вышло из строя. По воле Светланы. Не по его. В ответ он совершил единственное, что должен был совершить.
Ликвидировал обстоятельство, с которым нельзя совладать.
И вот теперь оно снова всплыло. Она звонила и справлялась о его состоянии. И сообщил ей о том, где он лежит и что с ним, разумеется, Арсений.
Мальчик, любимый мальчик, решился пробить стену, толщину которой не осознавал.
Но тяготило Олега Александровича не только это.
В первые минуты он почти поверил, что его перевод в отдельную палату есть следствие симпатии к нему лечащего врача и, возможно, признание его заслуг перед обществом, но, прокручивая в памяти весь разговор с ним, он быстро догадался: заблуждение. Вызов «скорой помощи» дежурившим у входа в ЦК милиционером конечно же свидетельствовал о том, что там, куда его вызывали, известно о случившемся с ним и в покое его оставлять не собираются. Ему предложили сделку, в которой взятое им время на размышление — всего лишь формальность. Может быть, предупредить Иезуитова? Или все уже решено? Какой предполагался сценарий давешнего разговора в ЦК? Он обязан был согласиться с претензиями к Иезуитову, подтвердить его опасное и недальновидное ретроградство, и тогда ему бы предложили занять место директора? Неужели все так подло? Так просто? Так гадко?
Тогда он молодец. Какое-то время выиграл. Тут и инфаркт на руку. Болезного передумают назначать? Хотя вот в отдельную палату определили. Пекутся! Значит, не факт. Этот растекающийся и втекающий в людей Чижиков твердил о каком-то письме от имени ученых по поводу Иезуитова. Кто же мог его состряпать? И при чем тут он? Ведь он все последние годы столько сил тратил на то, чтобы никуда не впутываться, занимался наукой, поддерживал все решения руководства, ни с кем не ссорился, ничего сомнительного не выдвигал. Двигался по жизни осторожно, как канатоходец, рассчитывал каждый шаг. И двигался, двигался, двигался. Занял достойную должность. Опекал Арсения. Выпестовал его. А если он ошибается? Вовсе ни на какое директорское место его не прочили! Просто проверяли, не бросится ли он на защиту Иезуитова. Им нужно предусмотреть все. Избежать любых неожиданностей. Давно ли они стали такими аккуратными! Хотя ведь теперь перестройка… Гласность… Демократия… Так, как при Сталине, с человеком уже не поступишь. Нужно заручиться поддержкой масс не по факту, а заранее. Но чего они к нему прицепились? Лучше уж было оставаться в компании с сопящими соседями, чем здесь в одиночестве маяться. Кстати, а в институт о его состоянии сообщили? Ведь там скоро его хватятся.
В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, открыли ее. Тетенька в шапочке и фартуке привезла обед. Поставила тарелки на стол и, ни слова не сказав, удалилась.
1949–1951
Тот вечер в «Метрополе», в ноябре 1949 года, устроенный Франсуа, стал настоящим финалом в короткой истории их компании. Не ложным, за которым что-то еще есть, а с последними аккордами в основной тональности.
Поначалу предположение французика переместиться из скорбного московского двора в ресторан показалось всем, кроме Прозоровой, абсолютно неуместным. Во-первых, поход в злачные заведения по тем временам был предприятием весьма дорогим, а во-вторых, веселиться в ярких залах сейчас, когда их друг мучается в застенках, явно не самая лучшая затея. Но настроение как-то быстро переломилось, всеми овладела необходимость вырваться из тисков жуткой реальности. Люда отвела Франсуа в сторону и что-то быстро шепнула ему на ухо. После этого усатый француз заявил, что он всех собирается угостить на славу, и, если кто-то откажется, он смертельно обидится.
На Лапшина весь этот цирк не подействовал. Он категорически не хотел ни в какой ресторан и собирался наконец улизнуть, но Шнеерович уговорил его:
— Брось ты! Когда мы еще в «Метрополь» попадем. Посидим немного и по домам.
Около Никитских ворот нашлось сразу два такси, и вся компания поехала на площадь Свердлова.
В «Метрополь» Франсуа явно заходил не впервой. Швейцар с особой почтительностью, какой обычно одаривают щедрых завсегдатаев заведения, помог ему раздеться, между тем поглядывая на его гостей с явным подозрением.
Позже Лапшин и Шнеерович часто вспоминали тот день, и Михаил неизменно укорял друга:
— Еле-еле тебя уговорил тогда. Надеюсь, не жалеешь?
Бывают-таки застолья, которые начинаются как вполне обычные, даже чуть тягостные, но потом в них открываются неведомые прелести, как под листочками и травкой открываются пытливому взгляду грибника идеально крепкие боровики.
Грибки, кстати, в «Метрополе» подавали. Как и многое другое — диковинное для простых людей. Этот ресторан был одной из витрин сталинского времени для иностранцев. Поддельное свидетельство хорошей и свободной жизни советских граждан.
Холодная водка в жеманных графинах, неизменные для вечерних ресторанов праздничные хлопоты официантов, разновысотный звон посуды, ползущие разговоры — все это тогда подействовало на Лапшина, как он и ожидал, удручающе. Он единственный за этим столом знал то, что не знал никто. Знал подлинную подоплеку всего происходившего, страшного, несправедливого и необоримого. И от этого ему хотелось забыться. Однако к водке он едва прикоснулся. Острое чувство опасности не позволяло раскиснуть, алкогольно размягчиться. Почему-то вспоминалось, как почти год назад обещал написать ораторию на стихи Евгения Сенина-Волгина. Ведь он пробовал. Но что-то тормозило работу, мешало нотам сплестись так, как надо.
В один момент зал наполнили звучные аккорды. Пианист в белом фраке аккомпанировал пышногрудой, положившей руку на рояль певице. «Утро туманное» звучало слишком низко и фальшивовато.
Неизвестно чем ведомый, Шура Лапшин подошел к инструменту, попросил музыкантов передохнуть, с чем они охотно согласились, и начал играть, исступленно импровизируя, резко, смело меняя темпы и размеры, доверяя черным и белым клавишам все то, чего не мог высказать словами. Начал он с какой-то хрупкой темы в очень высоком регистре, похожей на вспархивания печальных птиц, сначала аккомпанемент звучал простенько, в виде острых, ясных аккордов, потом тема видоизменилась, фактура насытилась пластами, и все летело куда-то, как орлы летят над бесконечными долинами, что-то высматривая внизу.
И вдруг звуки рухнули вниз, катастрофично и безнадежно, и начали выбираться, медленно подрагивая, как выбираются из воды долго плывшие и отдавшие борьбе со стихией все силы. Дойдя до среднего регистра, музыка словно крепла, набирала хоральной мощи и подбирала каждый голос как добычу. Изощренная каденция вроде бы возвещала, что все идет к концу, но звуки, не получив разрешения, начали озорничать в бурлескном скерцо, с пассажами немыслимой изворотливости.
Скерцо, достигнув предельной скорости, как будто немного забуксовало, потом быстро истаяло, и все вернулось к первой хрупкой теме, звучавшей теперь тоскливей и обреченней.
Когда Лапшин снял руки с рояля, зал, до этого погрузившийся в робкое молчание, грохнул овациями. И никому из посетителей кабака было невдомек, что Лапшин не собирался никого впечатлять своей игрой, просто прятался от чего-то, зарывался поглубже от реальности в безвинную и бесцельную последовательность звуков.
Когда он вернулся к столу, увидел, что графины с водкой пусты, а вся компания уже изрядно навеселе. Сколько же он просидел за инструментом?
Прозорова похлопала в ладоши почти перед самым Шуринькиным лицом и умиленно произнесла:
— Как чудесно! Что это было?
— Так. Один малоизвестный автор…
— Шутишь! Это твое сочинение. Я поняла. — Прозорова прищурилась и покрутила в пальцах волосы у правого виска. — А как твоя оратория или кантата на стихи Евгения? Продвигается? — лицо ее вдруг исказила злоба, но всего лишь на мгновение, затем вернулось прежнее чуть наивное, внимательное и располагающее выражение.
Лапшин не успел ответить. Франсуа застучал ножом о свой бокал и почти прокричал:
— Прошу всех послушать, что я сейчас скажу.
Шура поглядел на него, и ему почудилось, что усы того еще больше закрутились вверх.
— Я хочу, чтобы Людмила стала моей женой.
Дальше неразбериха только усилилась. Все изображали удивление и радовались за только что ставших официально женихом и невестой друзей, хотя и осознавали, что это только начало истории. Получить разрешение на брак с иностранцем Людмиле вряд ли будет легко.
Лапшин ушел чуть раньше других. Уже на автобусной остановке его догнала незнакомая женщина в легком вечернем платье, сказала ему несколько слов на французском и сунула в карман его пиджака что-то завернутое в ресторанную салфетку. Сделав это, она стремительно побежала обратно. Шура ничего не успел ни понять, ни предпринять. Да еще автобус подошел, в который необходимо было войти, иначе следующего прождешь неизвестно сколько.
В автобусе, в который, несмотря на поздний час, на каждой остановке кто-то заходил, Лапшин не решился раскрывать неожиданный презент. У него и так уже немало неприятностей. Угодить в шпионы сейчас — совершенно лишнее. Хотя, возможно, он давно уже и фигурирует как шпион…
Только у своего подъезда, убедившись, что вокруг никого нет, он вынул из кармана сверток из кружевной салфетки. В нем оказались маленькие, изящные и дорогие на вид женские часики. Он с удивленным восторгом разглядывал их. Что все это значит? Что хотела этим жестом сказать незнакомая ему иностранка?
* * *
На следующий день они увиделись со Шнееровичем на работе. Кинохроника им тогда обоим досталась на редкость пафосная. С особым озорным, сдобренным долей фарса энтузиазмом они и аккомпанировали ей. На экране мелькали встающие из руин советские города, вырастали крупные планы передовиков производства, беспрерывно улыбающихся, колосились бескрайние колхозные поля, слаженно, как танки, передвигались трактора и комбайны. Нескончаемые кадры, нескончаемое ликование, нескончаемое восстановление народного хозяйства, долгожданное счастье мирной жизни. А музыкальный фон всему этому великолепию создают два изгнанных из консерватории еврея.
Разумеется, когда, отработав всю программу, они шли к метро, то вспоминали вчерашний день, начавшийся с тревожной телеграммы, которая заставила их незамедлительно прибыть в дом в Борисоглебском, и закончившийся внезапным ресторанным застольем.
— Я читал, что лягушатники не отличаются особой щедростью, а Франсуа вчера прямо потряс. Вот что значит мечтает человек жениться. Любовь.
— Так-то оно так… — Лапшин сделал многозначительную паузу. — но не забывай, где Люда вчера была. Возможно, Франсуа стремится таким образом спасти ее. — Еще несколько шагов в молчании. — Может, и получится. А что, Франция нам не враг. Вот возьмут и разрешат им жениться. Франсуа дипломат. Скандал поднимет, если с Людой органы задумают сотворить что-нибудь нехорошее. Но, сам понимаешь, не исключено, что все усложнится. И всем будет хуже.
— Что-то ты настроен чересчур пессимистично, друг мой Александр! Разуверился ты в силе любви, — делано вымолвил Шнеерович. — Нам уже хуже не будет. А что до Евгения, то не надо ему было болтать на каждом углу, что советская власть — полное дерьмо. И напиваться как сапожник. И вообще он, на мой взгляд, не совсем в себе.
— За то, что не совсем в себе, в тюрьму не сажают. — Лапшин как мог уходил от этой скользкой темы. — Для этого есть врачи.
— Хм, смотря что иметь в виду под «не совсем в себе». — Шнеерович посерьезнел, видимо припомнив о чем-то крайне неприятном.
— Ладно. — Лапшин не собирался все это больше обсуждать. — Мы с тобой мало что можем изменить теперь. Наше мнение мало кого волнует. Дай-ка я покажу тебе одну вещь. — Он сунул руку в карман, порылся там, потом вынул. На ладони Лапшина маленькие часики, вчера подаренные ему иностранкой, уместились целиком.
— Ничего себе!.. — Шнеерович выгнул шею, как жираф, потянувшийся за кормом. — Откуда это у тебя?
Александр поведал другу таинственную историю появления у него этой вещицы.
— Вот это да… Она влюбилась в тебя и решила оставить память о себе. Отдала самое ценное, что у нее было. Страшно красиво и трогательно. — Шнеерович бережно взял часики и разглядывал их то снизу, то сверху, то сбоку, как заправский оценщик в ломбарде.
— За что влюбляться в меня? Не смеши. — Лапшина очень позабавило заявление Михаила.
Но Шнеерович так увлекся разглядыванием иноземного подарка, что не ответил.
Затем пробормотал себе под нос:
— А что ты собираешься с этой прелестью делать, если не секрет?
— А что с ней делать? Буду хранить. Как память. Что еще?
— Не глупи. Вещь, очевидно, очень дорогая. — Михаил глубоко вздохнул и решительно выдохнул. — Дай мне ее на день. Я приценюсь кое у кого. Не против?
— Как-то это неудобно. — Шуре не понравилось то, как Шнеерович повел себя.
— Да брось ты! Вдруг она шпионка? Нагрянут к тебе и спросят, где часы. А ты скажешь, сдал в скупку. И все. С тебя взятки гладки. Избавимся побыстрее от этой красоты и денег получим.
Лапшин всегда поражался, как в Шнееровиче уживались абсолютная музыкальность, хрупкость и тонкость натуры с удивительно бытовым, довольно пошлым гедонизмом. Среди его знакомых попадались такие типы, с которыми Шура не связывался бы ни под каким видом.
Однако в тот момент подозрительные знакомства Шнееровича очень пригодились. Подарок незнакомки удалось очень выгодно сбыть на черном рынке, и у друзей на время появились приличные деньги. Нищета чуть-чуть отпустила их. То, что «прибыль» должна быть поделена пополам, даже не обсуждалось. Лапшин и Шнеерович несли свой горький удел как братья.
А Шнеерович так возбудился от удачи, что частенько пускался в праздные размышления о том, что бы еще продать. Однако размышления так и остались размышлениями. Никаких шансов у друзей-евреев изменить свои жизни пока не предвиделось.
1949 год закончился. Франсуа и Люда получили от советской власти разрешение на брак и в начале марта уехали во Францию.
У дипломата кончился срок его пребывания в СССР.
Особых прощаний не было.
1950 год проскочил в заботах. Катастрофичность бытия стала обыденной. Лапшин и его близкие привыкали к такой жизни и благодарили судьбу, что они на свободе, не голодают и имеют крышу над головой. Шуринька не оставлял сочинения, хотя и никаких надежд на исполнение своей музыки не питал. С музыкантами, кроме Шнееровича и иногда Норштейна, не общался.
Сенин-Волгин получил 10 лет за антисоветскую деятельность.
Никого из борисоглебской компании на Лубянку больше не вызывали.
Весной 1951 года все жители СССР переживали за судьбу корейских братьев-коммунистов. После парада 1 мая, где Ленин и Сталин с привычной симметричностью соседствовали на декоративно-классицистской стене ГУМа, Москва обрела сухую ясность. Ясность асфальта, воздуха, неба, вымытых хозяйками окон, ясность набухающей сирени и стройности тополей, ясность ранних утр и стойкого понимания, что весна наконец победила.
То же самое происходило и с Лапшиным.
Страшная жизнь, что прежде ползала, прыгала, бросалась на людей, караулила их где-то рядом, теперь давала ему передышку. Сестра его поправлялась, мама тоже чувствовала себя неплохо, Танечка с каждым днем хорошела и светилась, а сам он все чаще просыпался с ощущением силы, что с ним давно уже не бывало.
Творческие замыслы, еще зимой бесконечно страшащие своей незавершенностью, обретали простоту, стройность и виделись вполне достижимыми.
В майские дни в кино народ ходил с удовольствием, и Лапшин со Шнееровичем были заняты больше обычного. На одном из сеансов, под напряженные сводки с корейской войны, согласно которым корейские коммунисты одерживали над пособниками мирового империализма одну победу за другой, Лапшин заметил, что Михаил как-то странно играет, словно не чувствует его, отказывается от ансамбля и вот-вот выбьется из ритма. Сегодня они играли в «Художественном». Освободившись, вышли из служебного входа.
До цветения сирени оставалась пара недель, но ее кусты уже томились желанием обрасти сочными и свежими гроздьями.
Шнеерович попросил у друга папиросу. Свои он уже все скурил.
— Я сегодня, вернее, вчера, виделся с Генриеттой, — каким-то лишенным тембра голосом сообщил Михаил.
— Да? И как она?
— Она нормально. Веру арестовали.
Этих слов Лапшину было достаточно, чтобы все в нем перешло в другой регистр — регистр кричащей боли. Зло никуда не делось. Только затаилось.
— За что?
— Да кто же скажет! Генриетте сообщила мать Веры. Она приходила к ним в Борисоглебский. Ох уж этот Борисоглебский! Генриетта в истерике. И мать ее тоже. Боятся, что теперь их точно потянут.
— Их можно понять.
— Пойми и меня тоже. Меня уже вызвали. Завтра пойду.
1985
Актрисы из Генриетты Платовой так и не вышло. Актерский успех часто зависит от обстоятельств, а не от усердия и таланта. Генриетту в Щепкинском училище педагоги выделяли, наперебой хвалили, ценя в ней творческую дерзость и неординарную органику. Глядя на нее, мало кто мог представить, что еще совсем недавно она три года сидела в одном классе из-за злостной хронической неуспеваемости. Натура ее была широка. Она легко впускала в себя людей, обожала компании, застолья, легко справлялась с недосыпами и крутила романы с такой же частотой, как крутит педали велосипеда профессиональный велогонщик. Наверное, она слишком много играла в жизни, оттого на сцене ее не всегда хватало. Да и в реальности роли были сладостней, увлекательней, особенно в отношениях с мужчинами. Некоторых своих любовников, длиной в одну ночь, она и не запоминала, к другим преисполнялась благодарности за хорошо проведенное время, к некоторым испытывала даже что-то вроде привязанности, а к отдельным, как, например, к молодому еврейчику композитору Шнееровичу, трогательную нежность.
Когда арестовали ее подругу Веру Прозорову, мать билась в не вполне понятной ей истерике, что теперь доберутся до всех. С чего-то она так решила? Они-то тут при чем? Как раз тогда ее роман со Шнееровичем, начинавшийся несколько раз и с какого-то раза затянувшийся, достиг той горячей точки, когда все хорошо и после которой ничего хорошего уже не бывает. Когда Генриетта посетовала, что Мишу вызывают на Лубянку, вероятно в связи с арестом Веры, мать завопила, что путаться сейчас с жидами могут только полные идиотки. Генриетта попробовала урезонить мать, но та была почти невменяема от страха и ненависти.
Миша после допроса пару дней был сам не свой, но ничего не рассказывал. Генриетта особо его и не пытала. Вскоре они без ссор и объяснений расстались. То, что они остаются друзьями, не подразумевалось. Но они тем не менее продолжали видеться, что ни его, ни ее почему-то не раздражало. Бывают такие привязанности, которые, несмотря на всю их бурность и экстатичность, способны в один момент исчерпаться полностью, как исчерпывается содержание романов Гончарова сразу после их прочтения.
Никакие сложности не сбивали Платову с настроя на то, что все будет хорошо. Без того настроя она бы, наверно, умерла. Хотя жизнь не избавляла ее от потрясений, но все они были ничто в сравнении с ее убежденностью, что некие высшие силы всегда на ее стороне.
После учебы в Щепке ее сразу после первого показа приняли в театр драмы, позже получивший имя Маяковского. Почему? Наверное, руководитель театра Николай Охлопков что-то разглядел в ней, какую-то подлинность, и решил дать шанс. Но, увы, прекрасная сказка быстро закончилась. В труппе театра совсем другая атмосфера, чем в театральном училище. Тут все конкуренты и друзей нет. Генриетта же сохраняла уверенность, что ее продолжат хвалить и поддерживать. Ведь она же Генриетта Платова. Звезда! Она недооценила опасность интриг, на которые так горазды были советские актрисы, и в итоге прочно осела в помсоставе, участвуя только в массовых сценах. Первое время она утешала себя тем, что все это продлится недолго, но время шло, а никаких ролей ей не предлагали. Прошел год, второй, третий. Генриетта числилась в театре, но все больше осознавала, что никому здесь не нужна. Она попробовала залить свое горе спиртным и несколько раз даже ночевала в гримерке, не в состоянии покинуть красное здание на улице Герцена самостоятельно, пока мать не отхлестала ее, явившуюся в их еще Борисоглебское жилье сильно подшофе, веником по щекам. Генриетта вскипела, обозвала мать тварью, и выбежала во двор. Куда угодно — только не домой.
К Свете?
У подруги тогда уже появился Олег. Они виделись не так часто, как прежде. Но ближе человека у Генриетты все равно не было. К Норштейнам! Только к Норштейнам. Больше некуда нести свою обиду и надеяться, что ее выслушают и успокоят.
Однако ни Светы, ни ее мамы Генриетта дома не застала, в комнате что-то писал, примостившись за крошечным столом, один Лев Семенович. Генриетта порывалась сразу же уйти, но Норштейн удержал ее, усадил на дочерину кровать, принес воды и молча выслушал ее исповедь пополам со всхлипываниями. Она выложила ему все: и про неудачу в театре, и про козни актрис, и про не понимающую ее мать, а потом и вовсе пересказала ему всю свою жизнь с такими подробностями, которые до того никому не планировала открывать. В частности, что ее бывший однокурсник Вольф Мягкий еще в училище звал ее замуж, клялся в вечной любви, и она даже рвалась, наплевав на свое поступление в театр Маяковского, ехать с ним во Владимирский драмтеатр, куда его направили после учебы, но он отговорил ее, утешая тем, что не задержится в захолустье, что ей недопустимо упускать свой шанс в столичной труппе и что надо только дождаться его возвращения, чтобы они зажили всласть. Она дождалась. Только вернулся он не один, а с молодой беременной женой. И теперь играет в театре на Малой Бронной Тузенбаха в «Трех сестрах».
Лев Семенович, дождавшись, когда исповедальный пыл Генриетты остыл, грустным, но не безнадежным тоном напутствовал ее: «Значит, твое счастье, деточка, не в том, о чем ты печалишься». Тогда Генриетта еще не ведала, как Норштейн обижен на их семью за материн отказ в помощи по кардиологической линии, и не уловила в его тоне издевки.
Потом всегда вспоминала его слова с благодарностью.
Ведь счастье ее действительно пряталось от нее там, где она и не искала.
Оно называлось — это счастье — Василий Васильевич Соловейчик, мужчина солидный, зрелый, с залысинами и коричневым портфелем. Соловейчика, служившего в театре Маяковского гримером, Генриетта до поры до времени своим вниманием не одаривала. Чем мог ее заинтересовать немолодой женатый педант? Но однажды зимой она, покидая здание театра, сильно подвернула ногу и растянулась прямо перед служебным входом. Василий Васильевич вышел на несколько секунд раньше Генриетты и, разумеется, обернулся на произведенный падением девушки шум и последующие чертыхания.
Соловейчик поспешил на помощь и обнаружил, что Генриетта не в состоянии ступить на больную ногу. Он поднял ее на руки и отнес обратно в театр, тут же попросив дежурного вызвать «скорую помощь». Врачи констатировали сильное растяжение, крепко перевязали ступню и лодыжку, пожелав в дальнейшем передвигаться осмотрительней. Василий Васильевич исполнил свою роль до конца: он нашел такси, подогнал его к самому крыльцу и не только помог Генриетте сесть в машину, но и сопроводил ее до дома в Борисоглебском, а потом и до двери квартиры. На прощание Платова звонко и невинно чмокнула своего спасителя в щеку.
Больше между ними такой целомудренности не наблюдалось.
Сложно объяснить, почему их так потянуло другу к другу.
Ее заворожили его руки, чью надежную силу она оценила, когда он нес ее обратно в театр после падения на крыльце; с ним сотворил что-то необъяснимое запах ее тончайших волос. Ее до слез смешила абсолютно не подходящая ему фамилия; его забавляла ее манера выпускать сигаретный дым с трагически-глубокомысленным видом. Она видела в нем того, кто способен опекать ее, он балдел оттого, как в Генриетте сконцентрировалось столько ничем не замутненной женственности. Ей было любопытно пообщаться с мужчиной немного не из своего круга, не сыплющим хохмочками по поводу и без повода и не отягощенным нарциссизмом, ему, прошедшему фронт от звонка до звонка, казалось, что в этой девушке он найдет все не дополученное им из-за войны и последующих тягот тепло, которое не могла ему дать измученная заботами жена. Когда он несколько церемонно первый раз припал к ее губам, она не успела даже, следуя всем законам жанра, оттолкнуть его. Забыла она и отвесить пощечину.
Начало их романа совпало с переездом Платовых на Беговую. Василий Васильевич помогал перевезти им вещи и устроиться на новом месте, проявив изрядную хозяйственность и такелажную сноровку. Генриетта представила его матери как коллегу по работе, что не мешало Зое Сергеевне изучать мужчину пристально и недоверчиво, равно как и то, как дочь общается с ним, как на него смотрит и как он реагирует на это. В этой однокомнатной квартире и зачали Генриетта с Василием Васильевичем сыночка, что и явилось концом их счастливого времени. Соловейчик ребенка признал, открылся во всем жене, которая тут же простила его, видимо, скорее из-за усталости, нежели из сочувствия, и пожелала ему хорошей жизни с новой женой. Однако Соловейчик никуда не ушел. Вероятно, он догадывался, что в качестве мужа Генриетта не готова его принять. Борис Соловейчик появился на свет семимесячным; когда Генриетта принесла его домой, у него не было даже ногтей. Врачи горестно вздыхали и разводили руками на все вопросы о дальнейшей судьбе малыша. Но двум женщинам удалось выходить Бориску. После декрета Платова в театр не вернулась. Мать устроила ее в «Медгиз» на должность технического редактора.
А Соловейчика-старшего насмерть сбила машина, когда его сыну Борису еще не исполнился год. Он успел подержать ребенка на руках, подарить ему коляску и пару раз постоять рядом с этой коляской во время прогулок.
Генриетта восприняла смерть отца своего ребенка как знак свыше: ей больше нельзя рассчитывать на мужчин хоть в какой-то мере. Не дай бог помыслить, что на них можно опереться. С тех пор ее отношения с противоположным полом строились лишь на телесной близости, и то ровно до той поры, пока не грозили перейти в нечто тянущееся, как дефицитная в те времена жевательная резинка, с мучительными объяснениями, расспросами-допросами и пылкими признаниями в том, во что с трудом верится. Единственным мужчиной из тех, кого она знала и кто вызвал в ней ощущения, что на такого можно положиться, был муж ее подруги Светланы Норштейн Олег Храповицкий. Нет, она вовсе не была влюблена и не помышляла о том, чтобы отбить Олега у Светланы, да это и едва ли представлялось возможным, — но когда находилась в его присутствии, внутри у нее все как будто расправлялось, она оживлялась, ее тянуло на разговоры об искусстве, а после того как общение прекращалось, Генриетта выкуривала чуть больше сигарет, чем обычно.
При всем этом она не завидовала подруге, не убивалась, как это часто случается между женщинами, о том, что у Светы полная семья, а у нее какая-то кособокая. И когда через год после Бориски у Храповицких родился Арсений, Генриетта консультировала подругу о тонкостях ухода за грудными детьми весьма охотно и без задней мысли. И Генриетта, и Светлана мечтали, чтобы сыновья подружились, но их приятельство ограничилось ранними детскими забавами во время перекрестных семейных походов в гости.
Когда Арсений начал учиться в ЦМШ, взаимно семейные гостевания прекратились.
Лев Семенович, как известно, свою настороженность к Платовым преодолевал с трудом. Поэтому, если Светлана затевала разговор о том, что давно они не ездили к Генриетте и Зое Сергеевне, старый Норштейн раздраженно объяснял дочери, что у Арсения нет для этого времени: ему надо заниматься. Арсений, надо сказать, не протестовал: в те годы он доверял деду безраздельно и все свои отношения с миром строил по его рецептам и лекалам, делая исключительно то, что Лев Семенович Норштейн считал полезным.
Конечно, влияние матери и отца не перекрывалось полностью, но композитор пристально следил, чтобы ничего из предпринимаемого родителями в воспитательном плане не мешало мальчику развиваться как музыканту.
Генриетта Платова услышала мелодичный звонок входной двери, торопливо потушила сигарету, фильтр которой был немного выпачкан помадой, и пошла открывать.
— Проходи, проходи. Не замерзла? — Генриетта обняла подругу и расцеловала в обе щеки.
Светлана сняла пышную, слегка влажную от снежинок шубу, размотала шарф и вместе с меховой шапкой вручила все это Генриетте.
Кухня в квартире Платовых малюсенькая, но Генриетта и Светлана больше всего любили проводить время именно там. Пили кофе, курили, болтали.
— На тебе лица нет, — всплеснула руками Генриетта, когда Светлана села напротив нее. — Ты здорова?
— Да все вроде в порядке. Тьфу-тьфу… Тебе кажется. Я пройду?
Светлана, пока шла по тяготящейся снегом улице Горького, мимо настораживающе красного здания Моссовета, пока ехала в громыхающем вагоне метро от «Горьковской» до «Аэропорта», пока шла мимо кирпичных пятиэтажек по улице Черняховского, почему-то начала сомневаться, стоит ли посвящать подругу в то, что сегодня приключилось. Но когда с мороза погрузилась в тепло платовской квартиры, все сомнения растаяли. В сложные моменты она часто делилась с Генриеттой своими переживаниями. Подруга так искренне и шумно сочувствовала ей, так старалась развеселить, отвлечь, что настроение подымалось как-то само собой.
Последние годы только с Генриеттой Светлана была собой.
В этой кухне, с видом на продовольственный магазин в хрущевке напротив, все ее раздражение куда-то девалось, и она могла обсуждать с подругой то, о чем с другими людьми не обмолвилась бы и словом: сплетни об известных людях, кулинарные рецепты, новые импортные фильмы из советского кинопроката. Под кофе и сигареты они обменивались новостями из жизни детей, обсуждали хвори родителей и то, какие лекарства необходимо в том или ином случае применять. И так из года в год. Трагические изменения в жизни семьи Храповицких не нарушили ритм их общения. Более того, деликатность Генриетты помогла Светлане многое пережить. Хотя открыть тогда Генриетте всю правду она не осмелилась. Причиной расставания с Олегом объявила, что они разочаровались друг в друге и что так всем будет лучше. Генриетта расспрашивать ничего не стала, чтобы не множить переживания.
В том, что Олег и Света не пара, ее не требовалось убеждать.
1956
— Тебе надо открыться. Только так ты спасешь себя. — Лапшин говорил нервно, морщась как от боли.
— О чем ты? Я давно уже труп.
— А если я раскрою тебя? — после этих слов Шура схватил себя за подбородок, словно пожалел о том, что произнес.
— Не советую.
— Почему? Ты покаешься. Расскажешь все. Как тебя принуждали. А так люди начнут возвращаться из лагерей и кто-нибудь да скажет. И вся твоя жизнь пойдет под откос. Тебе это надо? Я бы этого не хотел.
— Это еще не известно. Ничего не известно. Поэтому не советую. Будет хуже прежде всего тебе…
— Грозишь?
— Нет. Я знаю, о чем говорю.
— Извини, я забыл о твоей осведомленности. Все мои неприятности связаны с тобой?
— Зря ты так говоришь. Все сложнее. Да и какие неприятности! Тебя арестовали? Пытали? Убили? Твои близкие арестованы?
— Убийство на вашем жаргоне тоже неприятность. Мило… — Шура хмыкнул. Получилось весьма демонически.
— Ты ухмыляешься, будто ощущаешь теперь превосходство надо мной. Учти, ХХ съезд — это вовсе не то, что вы все полагаете. И что тебя тогда понесло на Собачью площадку? До этого ты был так безобиден.
— Интересно, а на чем тебя поймали? Не по доброй же воле ты.
— Я же сказала, будешь чересчур настойчив — нынешние твои неурядицы покажутся детским лепетом. Поверь, если бы не я, они бы и сейчас были крупнее.
— Это уже шантаж.
— И могут быть крупнее, если ты наделаешь глупостей…
— Какая же ты мразь!
— Не мразь, а труп. Я же сказала. Что ты можешь сделать трупу? Труп неуязвим. Только если сам им станешь?
Длинный, нечеловечески заливистый хохот завершил эту странную реплику.
1985
Арсений и Лев Семенович так увлеклись разговором и чаепитием, что оба вздрогнули, когда зазвонил телефон. Норштейн поплелся в комнату к дочери, где находился ближайший в их квартире телефонный аппарат.
— Если это из Бакулевского, дай мне, пожалуйста, трубку… — крикнул вслед деду Арсений.
Подойти к телефону действительно пришлось. Позвавший его Лев Семенович с изумленным видом протягивал ему трубку:
— Тебя. какая-то женщина.
Звонила Вика.
Услышав ее голос, Арсений испытал неудобство оттого, что до сих пор не связался со своей ленинградской подругой. Хорошо, что она все-таки выпросила у него этот номер. Правда, он строго-настрого запретил ей звонить, неуверенный в том, что вообще придет сюда, но она, похоже, запрет не соблюла.
В голосе его Виктории слышались победные нотки:
— Все-таки я нашла тебя! Как я рада!
— Прости, что я до сих пор не позвонил. Много всего.
— Не извиняйся. Я все понимаю. Тебе, вероятно, неудобно разговаривать. Скажи только, как чувствует себя твой папа? — спросила Вика торопливо.
— Завтра его разрешено навестить, — ответил Арсений, а сам вспомнил, что до сих пор не дозвонился до доктора Отпевалова. Надо срочно звонить, а то он еще уйдет домой.
— Это обнадеживает. Не сочти уж за труд, завтра дай о себе знать.
— Хорошо, дорогая. И ты звони.
Положив трубку, он поискал глазами клочок бумаги с телефоном врача. Он его оставил где-то здесь. Точно. Вот он. На туалетном столике.
Он набрал. Никто не подходил. Черт!
От окна веяло холодом. От сквозняка форточка чуть приоткрылась. Надо закрыть, а то мать придет, а тут такой мороз. Пока закрывал форточку, взгляд невольно скользнул вниз. Несмотря на высоту, он разобрал, что вдоль дома между их подъездом и соседним идет Димка и ведет под руку девушку. «Вот какой молодец! Время не теряет», — то ли с горечью, то ли с радостью мысленно констатировал Арсений.
Возможно, ему было приятней, если бы брат ждал его пробуждения, чтобы пообщаться. Но вряд ли он вправе сейчас на него обижаться.
Вернувшись в кухню, он как бы между прочим сказал деду:
— Сейчас видел из окна нашего Дмитрия. Прогуливался вдоль дома с какой-то девушкой.
— С девушкой? — Норштейн насторожился. — Боюсь, это Аглая Динская…
— Почему боишься?
* * *
Аглая Динская сидела с ногами на диване и куталась в мягкий плед. Дома никого не было. Мать с отцом ушли еще утром и сообщили, что они проведают бабушку, папину маму, Инну Семеновну, всю жизнь преподававшую теоретические дисциплины в консерватории и проживающую в другом композиторском доме, на Студенческой улице, и, скорее всего, останутся у нее, поскольку бабушка уже два дня страдает от высокого давления и ее боязно сейчас бросать одну на произвол гипертонии.
Какой-то тревожный озноб как привязался к ней после того, как она вошла в квартиру, так и не отпускал.
Довольно рано, лет в пятнадцать, Аглаю окончательно победила мысль, что ей невыносимо скучно жить. И с той поры она жадно искала новых впечатлений и удовольствий. Когда ее сосед Дима Храповицкий, как-то незаметно превратившийся из мальчика, которому она однажды по просьбе его мамы чинила сломанного игрушечного клоуна (о чем, он конечно же не помнил, а она на новом витке их отношений не напоминала, опасаясь, что намек на разницу в возрасте его огорчит), подошел к ней, рыдающей во дворе после ссоры с тогдашним любовником, она почуяла, что случай подарил ей возможность испытать что-то доселе не изведанное. От парня исходила томительно-молочная чистота, и этой чистотой девушке жадно захотелось напиться. Она медленно, со знанием дела подпускала его к себе все ближе и ближе, наслаждаясь неизбежностью добычи и в то же время слегка опасаясь его слишком юного возраста. Иногда она уже собиралась расстаться с мыслью, что между ними что-то может быть больше, чем дружба, а порой не без азарта представляла, каким он будет через год-другой. Имело ли для Аглаи значение, что он немного походил внешне на своего брата и пребывал примерно в том же возрасте, когда Арсений запал в ее детское, но уже намеревающееся взрослеть сердце? Она не думала об этом.
Слишком давно Арсений исчез из Москвы.
Но теперь, после того как Димка рассказал ей, что Арсений здесь, в доме на Огарева, ей необходимо осмыслить это.
Что его привело сюда после стольких лет? Должно быть, что-то очень важное.
То детское ощущение безоглядной влюбленности в высокого парня в белых шортах, деликатно перебрасывающего ей теннисные мячики и подбадривающего ее при промахах, неудержимо и бесконтрольно проступало в ней, как нечто написанное молоком на бумаге при последующем подогреве. (В те годы рассказ о том, как Ленин, находясь в заключении, писал молоком на полях книг, потом молоко высыхало и исчезало, а впоследствии, когда товарищи революционеры подогревали страницы переданных из тюрьмы книг, проявлялось, был безусловным хитом детской ленинианы.) А с каким взрослым видом он спросил ее, что она думает о симфониях Малера! Этим самым он как бы ввел ее в ряд зрелых музыкантов, к которым сам уже принадлежал. А что еще может быть важнее для одиннадцатилетней девочки? Как приятно, когда тебя держат не за бесполого подростка, а за взрослого человека. Когда она с восторгом поведала отцу о разговоре с внуком Льва Семеновича, тот только пожал плечами и еле заметно фыркнул. Слышавшая все это тогда мать поинтересовалась:
— И что ты ответила?
— Что они мне нравятся.
— Ну и молодец, — усмехнулся отец.
Вернувшись в то лето из Рузы, она нашла среди отцовских пластинок 5-ю симфонию Малера и послушала. К концу несколько заскучала. Но прозвучавшее в начале впечатляло сказочной мощью.
Такой яростной борьбой с окружающей скукой Аглая была «обязана» своей семье. Ее не держали в черном теле, наоборот, родители — оба музыканты — предпочитали среди всех методов воспитания наиболее демократичный. Они никогда не диктовали дочке, с кем дружить, что читать, как одеваться. Радеющий за антиавангардную строгость в музыке папа в отношении Аглаи словно реализовал свою нераскрывшуюся тягу к свободе.
Но в одном отец и мать проявили непреклонность.
Никакой другой карьеры, кроме музыкальной, для дочки они не приняли бы.
Хорошо, что учебу будущим профессиональным музыкантам, в отличие от других творческих профессий, следует начинать с самого раннего детства, когда сопротивление со стороны ребенка почти невозможно.
Ослепительных музыкальных данных у Аглаи не наблюдалось, но Динских это не пугало. Они знали великую силу музыкальной семейной солидарности. И хоть в ЦМШ или Гнесинскую десятилетку они ее отдать не рискнули, чтобы преждевременно не сошла с дистанции, в средней музыкальной школе № 13, что на Кутузовском проспекте, в знаменитом доме для членов политбюро и прочей партийной верхушки, определили ее к самому лучшему преподавателю, Ирине Светлокрынкиной, фанатично преданной своему делу даме с длинными седыми волосами, чуть похожей на ведьму. Аглая сначала побаивалась ее, но потом уговорила себя, что она никакая не ведьма, а просто фея в возрасте. То было недалеко от истины. Светлокрынкина в жизни отличалась кротостью и благонравием, на учеников никогда не повышала голос, но не прощала нерадивости и вульгарности. Занималась Аглая усидчиво, после восьмого класса поступила в музыкальное училище при консерватории, на дирижерско-хоровое отделение, а потом в саму консерваторию. Динский следил, чтобы ей доставались самые лучшие педагоги по всем дисциплинам. В училище ее распределили в класс к великолепному дирижеру Игорю Агафонникову, а в консерватории — к не менее одаренному и знаменитому педагогу Борису Куликову. Да еще к тому же и консерваторскому ректору. Сама Аглая относилась к музыке как жители приморских городов к морю. Это, конечно, прекрасно, но этого так много и это так постоянно, что самая острая любовь притупится. Некоторая властность характера помогала ей при работе с хором. Еще она млела от того, как выглядит на дирижерской подставке, и на каждом концерте или экзамене просила отца обязательно фотографировать ее со всех возможных ракурсов. Отец не зло поругивался, наставлял ее, что самолюбование — неприличное качество для музыканта, но все же возился с проявкой фотографий, запираясь в темной кладовой, чтобы никто не мешал.
Отец, как многие советские родители, сам не отдавая себе отчета, принимал решения за Аглаю, не спрашивая, что ей нужно. Бывало, это совпадало с желанием девушки, бывало, нет. Когда он через Союз композиторов пробил на их семью вторую машину и заставил Аглаю учиться в автошколе, она протестовала поначалу. Зачем ей это? Пусть мужчины или тот же отец ее возят. Но потом увлеклась и получала от вождения огромное удовольствие. Свой «жигуленок» она полюбила почти как человека, ставила его, к удивлению многих соседей, в гараже довольно далеко от дома и старалась по пустякам не гонять. Если только за город или куда-нибудь далеко по городу. Не понимала тех, кто ездил на машине на маленькие расстояния. Какая-то в этом крылась для нее мелочность. Машина ведь не средство передвижения. Это ритуал, удовольствие. Живи она чуть дальше от консерватории, возможно, ее категоричность в этом вопросе не оставалась бы столь неизменной.
Но она жила близко.
Тело Аглаи сейчас изнутри окатывали то волны холода, то приступы жара. Она вся сжалась, прижав к груди плед.
За окном зимние сумерки усмирили дневной свет, а в небе вдруг появились черные разводы туч, смотревшиеся красиво и чуточку зловеще. Похоже, она простудилась.
Она вздохнула, прошла в комнату родителей, достала из тумбочки градусник, вставила под мышку и вернулась под одеяло.
Ей во что бы то ни стало надо встретиться с Арсением. Сколько он пробудет в Москве? Какой он теперь? Но как все это организовать? Если позвонить, то трубку, скорее всего, возьмет Дмитрий. Она несколько раз за последнее время неосмотрительно интересовалась у Димки, нет ли вестей от брата, рассказывала, что помнит его как партнера по теннису в Рузе, даже намекала, что немножко была влюблена в него, и в какой-то момент поняла, что мальчишка ревнует, хоть и не подает вида. Тогда она посмеялась над этой ревностью и порадовалась тому, что ей удалось подразнить Диму.
По дому ходили слухи, что разрыв в семье Храповицких произошел страшный и две половины семьи давно не общаются.
Аглаю рассмешила Димкина показная отвага, с которой он плел ей про то, что на каникулах навестит отца и брата в Ленинграде.
Кто мог предположить, что Арсений объявится в Москве!
Аглая достала градусник.
Температура в пределах нормы.
* * *
И вот они втроем.
Дед и два внука!
Как давно Лев Семенович мечтал о том, чтобы два мальчика встретились.
Арсений, обладавший чрезвычайно чутким обонянием, уловил, что от Димки чуть-чуть тянет спиртным.
Это обеспокоило его, и он какое-то время размышлял, надо ли ему переживать из-за этого. Решил, что не надо. Выпившим брат не выглядел. Наверное, дернули с Аглаей какой-нибудь слабенький коктейль. Сколько же Аглае сейчас лет? Она старше Димки лет на пять.
— Мама еще не пришла? — Димка плюхнулся на кухонный диванчик и начал намазывать кусок хлеба маслом.
— Погоди, а то аппетит перебьешь перед обедом, — укорил дед Диму. — Мама у тети Генриетты. Обещала скоро вернуться. Придет, и будем кушать.
По выходным Светлана Львовна, Лев Семенович и Димка ели поздно, зато между завтраком и обедом много пили чая с бутербродами.
— Как прогулялся? Не замерз? Давай чайку горяченького? Мы с Арсением уже выдули чашек по пять.
— Можно. — Димка заулыбался при мысли, что скоро отхлебнет обжигающую жидкость. Он очень любил сладкий горячий чай.
— Дед, а что это на Арсении? Неужели это тот костюм, что тебе мать подарила?
— Да, а что? — Лев Семенович чиркнул спичкой по коробку, потом открутил ручку горелки и зажег конфорку, издавшую нечто похожее на тихий плевок.
— У меня же так много разных футболок и тренировочных. Лучше дал бы что-нибудь мое.
— Я без тебя постеснялся…
Димка вдруг вскочил:
— Арсений. Пойдем выберем, что тебе надеть.
— Ну, пойдем.
Они общались не как не видевшиеся много лет братья, а как старинные товарищи, один из которых неожиданно нагрянул в гости к другому.
В комнате Димки Арсений заговорщицки, почти полушепотом, сказал:
— Мы видели тебя из окна. С девушкой. Дед сказал мне, что это Аглая Динская.
Дима, продолжая что-то перебирать в шкафу, сразу не нашелся, что ответить. Деду и матери он соврал, что договорился встретиться с одноклассниками. Черт! Значит, ложь вскрылась. Какой позор! Надо что-то делать.
— Да. Я встретил ее случайно около дома. На, попробуй вот это. — Димка вытащил из шкафа аккуратно сложенные после глажки футболку и легкие, то ли полуспортивные, то ли полупижамные штаны.
— А я-то думал, у тебя было свидание!
Арсений разглядывал брата. Несколько минут назад дед жаловался, что опасается, как бы Димка не потерял из-за Аглаи голову, а ведь ему через полгода надо будет куда-то поступать. Учится он, конечно, хорошо, но всяко бывает. Мать, само собой, настаивает, чтобы он поступал в Мориса Тореза, у нее там знакомая заместитель ректора, но Димка сопротивляется, говорит, что это не его, хотя с английским у него все в порядке, все же в спецшколе учится. Тут еще эта Аглая. Так недолго и в армию загреметь. Тем более он уже из-за нее врет. Наплел, что пошел гулять с приятелями, а сам расхаживает с младшей Динской.
Как все это было близко, но и далеко одновременно. Его жизнь и не его. Впускать ее или подождать? Участвовать или отстраниться?
— Надеюсь, ты у нас сегодня будешь ночевать?
Арсений, услышав это от брата, вспомнил, как Димка, когда был совсем маленьким, до последнего заставлял его оставаться перед сном в своей комнате, пока мать не переходила на крик.
— Если не выгоните. — Арсений стягивал с себя дедовский костюм, в котором он, надо сказать, изрядно запарился…
— Ну вот и хорошо. Я лягу на раскладушке, ты не думай, я очень люблю на раскладушке, а ты на моей кровати.
— Может, лучше я на раскладушке?
— Нет. Это исключено…
— Ты был прав. В этом гораздо удобнее. — Арсений поводил плечами, удостоверяясь, что нигде ничего не жмет.
* * *
У Светланы так билось сердце, словно внутри кто-то колотил тяжелым бревном в кованые ворота. Впервые за все долгие годы дружбы она разругалась с Генриеттой в пух и прах. Как она столько лет не видела, что перед ней человек, не желающий ей добра, недоумевала Храповицкая. Она-то надеялась в обществе самой верной подруги и задушевной приятельницы сдобрить сегодняшние события такой порцией понимания и сочувствия, чтобы впоследствии не совершить чего-нибудь необдуманного. Но вместо этого она попала под град упреков, который изранил ее, и теперь надо как-то эти раны залечивать.
Теперь ей необходимо было с преподавательской скрупулезностью на каждое обвинение найти внутри себя резонное оправдание, но она так переволновалась, что логика пока отказывала ей. Самое страшное и неприятное, что эта паршивка Генриетта, с которой, разумеется, она никогда больше не увидится, отныне посвящена в тайну ее любви к Волдемару. Зачем она ей сказала? Зачем? Ведь столько лет молчала!
Когда возмущенная Светлана Львовна выбежала из квартиры Платовых и ринулась по улице Черняховского в сторону Ленинградского проспекта, вся ее многолетняя привязанность к Платовой исчезла, не оставив после себя и крошечного следа.
В метро, как только она вошла в вагон, интеллигентный юноша в очках уступил ей место.
Она сидела и смотрела в темное стекло напротив, которое иногда прорезали огни несущихся по параллельным путям встречных поездов. Произошедшее у Платовой не выходило из головы.
Войдя на кухню, Света присела на табуретку и попросила традиционную для их посиделок чашку кофе. Потом сигарету. Она уже некоторое время не покупала курево, веря в то, что это поможет быстрее бросить.
Разговор разгонялся нехотя. Храповицкая сетовала на то, что по Москве нельзя пройти, все завалено снегом, а убирать его никто не собирается. Платова беспокоилась, что ее Бориска до сих пор не женился, а ведь пора уже, тридцать лет, и увлечения у него какие-то странные: все свободное время проводит в букинистических магазинах, накупает кучу старых книг, тащит их домой, а потом терзает мать длинными и непонятными монологами на основе вычитанного. А тут на днях признался, что нашел классного старика, совсем недорого отдающего ему тома, которые нигде не сыщешь. Лучше бы уж на девушек тратился, чем на эту макулатуру.
Светлана соглашалась с подругой.
В какой-то момент повисла пауза.
Генриетта чуть прищурилась, потом потерла глаза, улыбнулась. Ей почему-то вспомнилось, как она успокаивала Свету после того, как ее бросил первый мужчина, Витька Суворов, смазливый парень с порочным и немного бестолковым лицом. Сколько лет прошло! Как все изменилось с той поры…
До замужества Светы Генриетта оставалась главной и первой поверенной во всех ее амурных делах, однако дела эти были, мягко говоря, невеликие и немногочисленные, в отличие от самой Платовой, чьи приключения как только не заканчивались: от неожиданного пробуждения на скамейке на Суворовском бульваре без кошелька и туфель до попытки обманутой и разъяренной супруги облить разлучницу серной кислотой.
— Помнишь, как ты мне рассказывала про одного своего ухажера в институте, который водил тебя постоянно в Зоологический музей и в одно из посещений сказал, что ты напоминаешь ему трепетную зебру?
— А чего это ты вспомнила об этом? К чему? — на лице Светланы мелькнула и сразу же пропала гримаса удивления, смешанного с шутливым укором.
— Наверное, старею. — Платова опять улыбнулась.
— Да ладно. — Света чуть приподнялась на табурете, словно ей было неудобно сидеть, и опять присела. — ты посмотри на свою маму. У нее наверняка таких мыслей нет. Или взять моего Льва Семеновича. Приседает восемьдесят раз по утрам и не боится один раз не встать. Упрямый! Сколько просила его надавить на нашу обнаглевшую домоуправшу через Музфонд, а он только отмахивается: мол, не его это дело. Совершенно неуправляемый, несмотря на возраст. Все по-своему делает.
Генриетта чуть помрачнела. Об «обнаглевшей домоуправше Толстиковой» ей слушать не хотелось. Она была в курсе этого глобального противостояния во всех деталях.
— Ты не голодная? — Платова попыталась сбить Свету с ее конька, взгромоздившись на который она могла скакать бесконечно.
— Нет. Кусок в горло не полезет…
— Почему?
— Сегодня утром звонок в дверь. Мы сидим с отцом, Димка спит еще. Иду открывать. Спрашиваю, кто — а это Арсений.
— Какой Арсений? — Платова сразу не разобралась, в чем дело…
— Арсений. Мой сын.
— И ты молчала? Боже мой, боже мой… — запричитала Генриетта. — После стольких лет? Зачем он приехал? Повиниться? Просить прощения? Или что?
Все эти годы Света настаивала на том, что Арсений предал ее, оставив в тяжелейшей ситуации, и ни разу не позвонил, не спросил, жива ли она, и что она никак не ждала, что воспитала такую бессердечную свинью. Платова не поддерживала ее пафос, но и не оспаривала. Не ее это дело, уговаривала она себя, Светлана сама разберется.
Хотя представить Олега и Арсения такими злодеями, как характеризовала их Храповицкая, ей было трудновато.
— Нет. Не повиниться. Сообщить, что его отец приехал в Москву, в ЦК партии, и его хватил инфаркт. Он в реанимации…
— Да уж. — Генриетта нервно и быстро почесала в затылке. — И ты здесь? Как ни в чем не бывало пьешь кофе, куришь и жалуешься на управдомшу? Сейчас эта Толстикова важнее? Ты из ума, что ли, выжила? А если Олег умрет?
— А где я, по-твоему, должна быть? Скакать и обихаживать тех, кто за одиннадцать лет не удосужился мной поинтересоваться?
— Да при чем тут сейчас это? Арсений пришел за помощью. Он может потерять самого близкого человека. Отца! И ты ничего не предпринимаешь? Реально, ты ненормальная.
Светлана сжала губы и уставилась, не мигая, на стоящую перед ней чашку.
— Не груби мне, будь добра. Из-за таких, как они, соглашателей замечательные честные люди сидят в тюрьмах. Лучшие люди. О них надо прежде всего думать.
— Что за чепуху ты несешь? Кто из-за Олега и Арсения сидит в тюрьмах?
— Кто? — вскипела Светлана. — А вот послушай кто.
В ней открылась какая-то запруда, давно уже бродившая в ней, и захлебывающаяся от бессилия досада выплеснулась без остатка.
Она выложила все про Волдемара, об их любви, о том, как она поняла, что такое настоящая близость, только с ним, как он мужественно распространял запрещенные сочинения Солженицына для того, чтобы народ знал правду, как пострадал за это, получив после изнурительного суда, где ему к антисоветской деятельности добавили еще и абсолютно недоказанную подпольную торговлю медикаментами десять лет строгого режима, и что она все эти годы не получила от него ни одной весточки, а все ее запросы по этому поводу оставались без ответа, и что мелкие людишки вроде Олега, подписавшего письма против Сахарова и Солженицына, и соглашателя Арсения и мизинца не стоят таких, как Волдемар. И много чего еще, отчего у Генриетты мелко закололо в боку.
Когда Света после нескольких неудачных попыток завершить свой монолог все же замолчала, Генриетта бросила ей:
— Все это, конечно, красиво. Сахаров, Солженицын. Но я, честно говоря, в шоке. Правда, дорогая, в другом. Ты изменила мужу, да еще и выставила его в этом виноватым. А он прекрасный был человек. По-настоящему. Хоть и не подходит тебе. Никогда не подходил. И твой сын тебе, вероятно, не подходил.
— Что ты такое несешь? — вспыхнула Светлана.
— Ровно то, что сейчас от тебя услышала. Жизнь тебе дала шанс все исправить. Но ты им не воспользуешься. Я почти не сомневаюсь. Ты о Толстиковой думаешь.
— То есть ты не на моей стороне? — Света растерялась, не ожидая такого от Генриетты.
— Не на твоей. Прости. Ты обвиняешь Олега и Арсения, что они тебе не звонили и не справлялись о здоровье. А ты сама-то волновалась за них? Тебе твой уголовник Волдемар дороже, который, как я понимаю, о тебе уже позабыл.
— Возможно, его уже нет в живых.
— Сдается мне, что это не так.
— Откуда тебе сдается? Что ты понимаешь?
— Ну уж где мне понимать. — Лицо Генриетты вдруг потемнело, и она выдавила: — Прости. Не хочу тебя сегодня больше видеть.
Голос ее слегка дрогнул. Не наигранно. Натурально.
Кровь поднялась Светлане к горлу, несколько раз сжала его, потом опять отхлынула до мучительной, непереносимой пустоты внутри. Она молча дошла до прихожей, оделась и вышла, хлопнув дверью. Генриетта не пыталась ее остановить. Когда Светлана все же обернулась, подруга смотрела на нее так холодно, что она ее едва узнала. Как она никогда не замечала ее этот взгляд! Об Олеге она говорила с таким жаром! Удивительно!
И вот она тряслась в вагоне метро. Обиженная, разгоряченная. Вся в смятении. Сбившаяся с какого-то своего пути и не могущая на него вернуться. А дома ее ждали отец и два сына.
И наверное, они жутко проголодались.
1956
Когда его выгнали за еврейское происхождение из консерватории, Шуринька не чувствовал такого отчуждения от себя всех и вся, какое испытал после того, как Вера вернулась из лагерей и принялась без устали сообщать всем знакомым, что на нее и на Евгения Сенина-Волгина донес в органы композитор Лапшин. Вскоре освободили и самого Сенина-Волгина, который охотно подтверждал версию Прозоровой.
Легкий шум, похожий на тремоло виолончелей, вскоре превратился в отвратительное глиссандо, искажающее пространство вокруг него. «Первой ласточкой» пропел Шнеерович, с которым они уже года три не играли вместе в хронику в кинотеатрах и потому виделись реже. К тому времени Лапшиным путем мучительных обменов, — в основном из-за желания Танечки быть рядом со своим престарелым отцом, Дмитрием Матвеевичем, а не из-за мечты улучшить жилищные условия — посчастливилось превратить их коммуналку в отдельную квартиру. Счастье, правда, было весьма условным. Теперь в двух комнатах проживали сам Лапшин, его супруга и малолетний сын, сестра Лапшина, его мать и отец Татьяны. Ужасная теснота скрашивалась лишь тем, что не надо было делить ванну и туалет с посторонними людьми. Да еще Дмитрий Матвеевич оказался добрым знакомым начальника местной телефонной станции, и в квартире появился телефонный аппарат. По этому аппарату, похожему на безголового напыжившегося атлета в черном трико, Лапшин узнавал сводки распространения навета. Шнеерович по телефону то посмеивался, то переходил почти на шепот, то изумленно взвизгивал.
— Представляешь, Вера уже в Москве. Полностью реабилитирована. Я видел ее на концерте в Доме композиторов. Она постарела. Хотя все еще красива. Такой бальзаковской красотой, прости меня Господи. Она отвела меня в антракте и сказала, что на нее донес ты. Видимо, она не знает, что меня по ее делу вызывали. И я не стал ей говорить. По поводу тебя, конечно, я с ней не согласился. Но она только засмеялась так нехорошо.
Ждал ли Лапшин чего-то подобного? Нет. Приходили в голову угрозы, шантаж, в кошмарах мерещились машины, сбивающие его близких, но он полагал, что его молчание — своего рода гарантия того, что хуже не станет.
И вот все завертелось. Кураторы «трупа» делают все, чтобы отвести подозрения. Как им удалось убедить Веру? Она же не дура. Да и неплохо к нему относилась. Даже чуть-чуть была влюблена. Хотя не чуть-чуть. Безапелляционно была влюблена. А он не ответил взаимностью. Но не из-за этого же она его чернит?
Через день после известия Шнееровича Лапшину позвонила Милица Нейгауз и довольно резко высказала ему все, что думала, обзывая его ничтожеством, стукачом, сталинской сволочью. Лапшин молчал, потом положил трубку. Вера была ее племянницей. Объяснять что-то бесполезно.
Ему казалось, что его почти завершенный реквием «Памяти жертв репрессий», который он писал в горячечном творческом азарте, способен многое изменить. Сочинителям всегда грезится, что их творчество решит их проблемы, избавит от мучений, что-то кому-то докажет. Но обыкновенно ничего такого не происходит. Так и в этот раз…
Вскоре он принес партитуру в Бюро пропаганды советской музыки, где ее приняли, но когда он через месяц осведомился, как обстоят дела с исполнением, миловидная чиновница только развела руками: вы сами должны понимать.
А осенью 1956 года к нему заявился Сенин-Волгин. Он не позвонил в дверь, а резко и часто постучал. Лапшин не сразу узнал его, лицо обрамляла всклокоченная борода, глаза горели нездоровым блеском, на лбу краснел свежий, в кровоподтеках шрам. Он прорычал:
— Зачем ты меня предал? Иуда! Мразь! Ты всех нас предал! А я всегда так думал, между прочим. Ты мне никогда не нравился! Тебе не будет прощения никогда.
Лапшин встал в проем так, чтобы Евгений не вошел. Его трехлетний сын только что уснул, причем засыпал с большим трудом, не по-детски нервно, то закрывая глаза, то снова открывая. Днем маленький спал очень чутко и часто просыпался с криком, будто чего-то испугавшись во сне.
— Я тебя не предавал, — как мог спокойно и тихо сказал Лапшин. — И никого не предавал. Я не вру. Это так. Предатель не я.
— А кто же? Может, я? Можешь не запираться. Это бесполезно. — Сенин-Волгин раздул ноздри в знак крайнего презрения. Получилось чуть опереточно. — На Лубянке и не думали от меня скрывать, кому я обязан пребыванием у них. Видать, не подозревали, что я выживу и приду на тебя поглядеть. Твари! Как и ты! Нет прощения. И на том свете не вымолишь.
— Что ты несешь? — Лапшин болезненно скривился, как от смрадного запаха.
— С каким упоением следователь читал мне мои же стихи! И как порицал меня: не надо, мол, с жидами связываться. Всегда они продадут. А как ты красиво излагал! Умолял дать тебе их. Я напишу на них музыку. Написал ведь! Только донос.
Лапшин яростно хлопнул дверью так, что Сенин-Волгин еле успел отскочить.
Через несколько минут композитор выскочил на улицу, увидел спину неспешно отходящего от подъезда Евгения, догнал его и швырнул ему в лицо стопку чуть смятых листов бумаги:
— Вот они, твои стихи. Забирай! Никому я не доносил. И никому их не показывал.
Не дожидаясь ответа, Александр Лазаревич быстро зашагал обратно.
Евгений не спеша, деловито начал поднимать с тротуара исписанные листы. Один не успел взять. Ветер быстро поволок его в сторону проезжей части.
Сенин-Волгин провожал его глазами и качал головой.
1985
Если Аглая что-то для себя решала, то ее уже ничего не останавливало. Ей надо было увидеть Арсения — вот и все. Зачем звонить Храповицким? Она сейчас оденется, выйдет из подъезда и отправится в гости к соседям по дому. Маловероятно, что они ее выгонят.
Придумывать повод? Не помешает, конечно. Сейчас что-нибудь сочинится.
А в голове поселилось что-то легкое, порхающее, торопящее мысли. Как же объяснить свой неожиданный приход?
Она зажгла торшер.
Озноб прошел.
Дед Димки недолюбливает ее отца, папа сам об этом не раз говорил не без горечи, поскольку сам Льва Семеновича ценил. Попросить у старого Норштейна какого-нибудь профессионального совета? Это глупо. Он же не хормейстер. Стоп! Ведь мама Димки и Арсения преподаватель английского.
Есть идея!
Надо прикинуться, что ей необходима перед экзаменом консультация по английскому, и она зашла по-соседски обсудить это: может, Светлана Львовна согласится. А как потом? Если она скажет «да»? Ну так и хорошо, консультация всяко не помешает. Для Аглаи не было секретом, что Светлана Львовна к ней относится не так, как к остальным. И хоть ее мама не раз сетовала, что Светка Норштейн, после того как разбежалась с мужем, совсем озверела и едва ли на людей не бросается, в свой адрес Аглая ничего такого не замечала. Всегда добродушная улыбка, непринужденный разговор и неизменный привет родителям.
Что бы такое надеть? Конечно, надо бы выглядеть получше, но не вызывающе…
Аглая рано вывела для себя формулу: не надо опасаться мужиков старше себя. Зрелый мужчина куда больше способен дать такой девушке, как она, чем парень одного с ней возраста или моложе. Без сомнения, ровесников значительно легче заставить делать то, что ей нужно. Но на многое ли они способны? Зато когда опытного самца ловишь на крючок, влюбляешь его в себя и немного влюбляешься сама, жизнь обретает иное качество. Рестораны, концерты, закрытые показы в ЦДЛ, в ВТО, поездки за город, романтика. Длилось бы и длилось. Жаль, нельзя бесконечно. Хорошие экземпляры мужчин обычно разбирают еще щенками, и рано или поздно они возвращаются к любимому поводку в руках жен. К сожалению. Однако унывать нет смысла. Один вернулся, другой отвязался. На ее век хватит.
В интимные отношения со сверстниками она вступала в исключительных случаях и никогда не длила связь сколько-нибудь долго. И вот появился Димка. Стал другом. Она привыкла к нему. Весьма неожиданно для себя и против своих привычек. Надо все же как-нибудь намекнуть парню, чтобы на продолжение сегодняшнего не надеялся, размышляла она, требовательно оглядывая себя в зеркало. Ни к чему это. С ним намечается много возни, а ей сейчас не до этого. Арсений приехал.
Аглая осталась вполне довольна своим видом. Свежий легкий румянец и ямочки на щеках, волосы строго убраны назад, на шее короткие жемчужные бусы. Такая красотка обязательно приглянется Арсению. Сколько ему теперь лет? Около тридцати. То, что доктор прописал.
Послышалось тихое шлепанье, затем кто-то сильно ткнул ее в ногу и тихо завыл. Боже мой! Со всей этой чехардой она совсем запамятовала, что родители ушли рано и семейный любимец песик Пуся совсем без внимания и, видимо, уже и без питания. Часов около десяти утра она коротко погуляла с ним. Быстро вывести его? Нет. Глядишь, Димка засечет ее с Пусей из окна и выскочит к ним, как это обычно с ним происходит. Потерпит немного. А вот покормить брата меньшего надо.
Аглая достала из холодильника миску с тем, что мать обычно для Пуси оставляла: кусочки курицы, мясные косточки, плавающие в бульоне. Пуся завилял хвостом и с интеллигентной неторопливостью домашней собаки сунул в миску длинную мордочку.
Ну вот теперь можно идти. На улице ее обдул холодный ветер, и это вселило в нее еще большую уверенность в правильности своих поступков.
* * *
Аглая нажала на кнопку звонка квартиры Норштейнов, немного подержала и услышала голос Льва Семеновича:
— Наверное, Света ключи забыла.
А потом скрежет открываемого замка. Взгляды старика и девушки столкнулись так, как сталкиваются глаза случайно оказавшихся в лесу друг перед другом человека и рыси. Для человека в поединке с рысью шанс на спасение может дать только вода, которую животное боится и всегда перед ней останавливается. Но Льва Семеновича и Аглаю разделял лишь порог.
Аглая состроила гримасу, говорящую о ее крайне взволнованном и застенчивом состоянии и о заведомом раскаянии в том, что она приносит людям неудобство:
— Лев Семенович, извините за беспокойство, а Светлана Львовна дома?
— Нет. Но она скоро придет. — Лев Семенович не мог справиться с удивлением и испытывал такое чувство, словно случайно засунул в рот большой кусок чего-то очень горячего и теперь не в силах его ни проглотить, ни выплюнуть.
— Мне очень нужно с ней поговорить. Жаль, что не застала ее. Ладно, тогда в другой раз зайду…
Аглая не оставила Льву Семеновичу шанса: или он приглашает ее войти, или проявит вопиющую беспардонность.
— Ты можешь подождать ее у нас. Мы как раз чай пьем. — Норштейн неумело выдавил из себя гостеприимство. — Я думаю, она уже вот-вот появится. Ребята, у нас гостья! — зазывно крикнул старик.
Пока Аглая входила, вытирала ноги, раздевалась, в коридор вышли Дмитрий и Арсений Храповицкие, оба такие домашние, схожие по телосложению, заинтригованные тем, кто же к ним заявился.
— Привет! — Аглая оглядела их и тут же отвела глаза, как бы смущаясь.
— Привет. — в Димкиной голове затрещала телетайпная лента: «Она пришла увидеть Арсения, она меня не любит».
— Здравствуйте. — Арсений прислонился к стенке, словно кому-то мешал пройти.
— У Аглаи какое-то дело к нашей маме. Я предложил ей пока попить чайку. Арсений, ты узнаешь Аглаю? — Лев Семенович еле заметно кивал своим собственным словам. — Вы уж нас, Аглая, извините. Мы тут по-домашнему.
Похоже, в семье восстановился мир. «Дело к нашей маме», «мы тут по-домашнему», пришла к выводу Аглая. Любопытно. Так быстро?
— Узнаю. — Арсений улыбнулся и какое-то время так и оставался улыбающимся.
— Аглая! Ну что же ты! — Лев Семенович сделал многозначительную паузу. — Проходи. Мы на кухне чаи гоняем. Сейчас Светлана появится, и все вместе потрапезничаем посерьезней.
— Ой, нет. Это совсем неудобно. — Аглая покачала головой. — я правда не вовремя.
— Да нет уж! — Арсений оживился. — Не отпустим тебя.
Четыре человека за кухонным столом разместились не без труда, а сама кухня сразу уменьшилась в размерах.
— Ну что, Дмитрий, давай ухаживай за Аглаей… — Лев Семенович нервно потирал рукой подбородок.
Димка весь испереживался. И не только подозрение, что Аглая ни с того ни с сего явилась к ним, чтобы увидеть Арсения, заставляло его сидеть как на иголках и судорожно прикидывать, как же себя вести. Ему надо было как-то дать знать подруге, чтобы она не касалась в разговоре их особых отношений. То, что дед и Арсений, скорее всего, наблюдали окончание их прогулки из окна, — не страшно. Но вот если узнает мать… Она так рьяно претендует на полный контроль над ним, что запросто рассвирепеет, когда вскроется, что он уже с осени проводит с Аглаей столько времени, а сегодня еще и распивал с ней алкогольные коктейли. Да. Дед пару раз видел их во дворе, но, очевидно, матери не рассказал. В этом плане он молодец. Никогда не стучит. Если что не нравится, все говорит напрямую.
Ну зачем она к ним заявилась?
Димке почему-то не приходило в голову, что мать вполне могла наблюдать из окна их совместные прогулки.
Он смотрел на губы Аглаи. Совсем недавно они целовались. И ей, похоже, понравилось. Несмотря на то что для него это первый опыт. Или он это сам выдумал? А не ляпни он ей, что Арсений здесь, пришла бы она сюда? И что ей так срочно понадобилось от мамы? Почему она ему ничего не сказала об этом?
— Ну чего ты застыл? — торопил Лев Семенович Димку. — вот заварка, вот кипяток…
— Тебе с сахаром? — обратился старик уже к Аглае.
— Угу, — ответила Аглая и продолжила еще более елейным тоном: — Хорошо у вас так. Тепло. Будто печь натопили.
— Это оттого, что мы тут уже чайников пять вскипятили за последнее время… — пошутил Арсений.
— От чайника такого не бывает. Просто топят хорошо. У вас хуже? — Димку разозлило, как блестят глаза Аглаи и как она смотрит на Арсения, поэтому он произнес это слишком уж агрессивно, что не очень соответствовало моменту.
Точно она притащилась, чтобы на него поглазеть!
Димке захотелось выйти из-за стола, убежать в свою комнату, погасить свет, накрыться с головой одеялом и лежать так, пока в голову не придет что-нибудь путное.
Тут все услышали усталые повороты ключа в замке, потом звук шагов, еще какие-то шуршания.
Мужчины в кухне замолчали в ожидании чего-то. Только Аглая встрепенулась, вскочила и вышла в прихожую.
— Здравствуйте, Светланa Львовна! — Аглая не подошла, а почти проскользила по паркету к хозяйке. — А я к вам.
— Привет! Ко мне? — Светлана Львовна поставила сумки с только что купленными продуктами на пол. — Деточка, что случилось?
— Ну… — Аглая повела плечиками и сделала робкую паузу. — В общем, мне надо срочно подтянуть английский. Хотела спросить, не согласитесь ли вы.
— Неожиданно. В каком смысле подтянуть? Какова цель?
— Вы разденьтесь сначала. А то я задерживаю вас. У вас наверняка хватает хлопот. Я много времени не отниму.
Силуэт Льва Семеновича отделился от кухонной двери.
— Света. Мы тебя уже заждались. Я пригласил Аглаю откушать вместе с нами.
— Вот и отлично. — Светлана сняла с себя шарф и положила его на верхнюю полку одежного шкафа. — Арсений, Дмитрий, ступайте в комнату c дедушкой. А мы пока с нашей гостьей здесь посекретничаем да поколдуем.
Мужчины удалились, взяв с собой чашки.
Светлана Львовна симпатизировала Аглае. Не сказать, что они много и часто общались, но весь внешний вид Аглаи, ее манера поведения, ее голос импонировали матери Димки и Арсения. Бывало, они сталкивались около дома и обменивались ничего не значащими репликами о погоде, излюбленной теме советских людей, интересовались делами, здоровьем, могли даже обсудить какую-нибудь шумную телевизионную премьеру, если таковая имелась. Причем Аглая порой поражала соседку точностью и дерзостью оценок. И каждый раз Светлане становилось после этого как-то хорошо и спокойно. Есть же еще в этой стране нормальные, обходительные люди, радовалась она. А иногда, заметив издалека изящную и трогательную фигуру Аглаи, меряющую пространство мелкими шажочками, Храповицкая горевала: что ждет эту с таким не совковым вкусом одевающуюся, такую эффектную, такую развитую и свободомыслящую девушку в Совдепии? Ничего хорошего. Выйдет замуж, родит детей, красота сотрется, хлопоты умножатся, характер испортится. Не отдавая в этом себе отчета, Светлана Львовна видела в ней себя много лет назад.
Ту себя, какую она потеряла.
Обнаружив девушку у себя дома, Храповицкая сперва, само собой, удивилась. А потом обрадовалась. Аглая — это то, что ей сейчас надо.
— Помоги мне, голубушка. — Светлана Львовна взяла одну из принесенных сумок и понесла ее на кухню.
Аглая схватила другую и устремилась вслед за хозяйкой.
Светлана Львовна посмотрела на девушку, покачала головой и куда-то ушла. Когда возвратилась, протянула ей фартук в разноцветную полосочку:
— Вот. Надень. Ну что, картошку успеешь быстро почистить? Думаю, мужчины от жареной картошки не откажутся. Суп и котлеты у меня есть. Салат какой-нибудь сейчас сварганим.
— Конечно.
Светлана достала из ящика стола серый нож с чуть изогнутым лезвием, с крупной, расширяющейся к концу ручкой:
— Вот. Cтарый, но надежный. Моя мама эти ножи купила еще до войны. И она приучила меня обязательно раз в неделю носить их к точильщику. Вот я вчера как раз носила. Так что нож в полном порядке. Приступай, а я пока закуски сделаю. Стол у нас намечается праздничный.
До сего момента Аглая бывала у Норштейнов дважды. Первый раз она помнила крайне смутно и знала о нем в основном по родительским рассказам, неизменно сопровождавшимся хохотом. Аглае было года два, и Лев Семенович пригласил несколько музыкантов, соседей по дому, для того чтобы сыграть им свой новый фортепианный цикл, написанный по мотивам стихотворений Поля Элюара. Семья Храповицких-Норштейнов еще была крепка и беззаботно счастлива, а отношения Динского и Норштейна пока не испортились.
До последней и решительной хренниковской борьбы с авангардистами, в коей Эдвард Михайлович примет самое активное участие, оставалось еще больше пятнадцати лет.
Динские оказались в числе приглашенных. И так вышло, что маленькую Аглаю не с кем было оставить. В итоге рискнули взять ее с собой. Слушала малышка очень внимательно, ни разу не пискнула. Когда ее мать с ужасом обнаружила, что диван, на котором сидят Динские, несколько промок, поначалу не разобрала, в чем дело. То ли от восторга, то ли по несчастному стечению обстоятельств Аглая незаметно для всех описалась. Родительница замерла от ужаса, боясь шелохнуться и привлечь к себе внимание. Лев Семенович продолжал вдохновенно играть, гости — зачарованно слушать, и только Мария Владимировна, быстро смекнув, в чем дело, пришла на помощь. Она тихонечко вышла, показанно съежившись, словно от холода, потом вернулась с горячей грелкой и потихоньку приложила ее к обмоченному месту. Конфуза удалось избежать.
Второй раз Аглая забегала совсем ненадолго уже после отъезда Арсения. Ее мама сильно грипповала, а у Норштейнов как раз имелось подходящее лекарство, которое было довольно трудно достать. Тогда Лев Семенович выдал ей заветный тюбик в прихожей. Ни чаевничать, ни обедать не позвал.
И вот третий раз.
Только почему она чувствует себя так, будто бывала здесь раньше неоднократно и ей все здесь знакомо, включая этот древний и тяжелый нож, которым так неудобно счищать с картошки грязную кожуру?
Лев Семенович и два его внука в ожидании банкета разместились в комнате, нынче служившей и гостиной, и столовой, и спальней дедушки. С потолка свисал матерчатый оранжевый абажур с длинной бахромой. Свет лампы, пропущенный через ткань, смягчался и настраивал домашнюю жизнь на неспешно-сказочный уют, такой тягучий, что будь рядом старухи-парки, они бы нашли, что сплести из этого воздуха. К Арсению подбирались добрые призраки детства, которые до сих пор еще жили здесь и помнили, как он часами предпринимал попытки стать абсолютным продолжением инструмента, неразделимым человеком-кентавром.
Дима забрался в кресло, Лев Семенович сел на диван, а Арсений устроился за столом.
— Помнишь, Арсений, когда мы чай пили сегодня, у тебя ложка упала?
— Ну? — Арсений удивился замечанию деда: к чему оно?
— Что значит «ну»? Помнишь, я сказал тебе, девушка к нам спешит? Ты еще засмеялся, что мама, наверное, торопится к нам, а я возразил тебе, что ложки падают, когда кто-то собирается в гости, а не домой. Вот и не верь в эту чепуху с приметами. — Норштейн задорно, совсем не по-стариковски улыбнулся, но улыбка вскоре сползла с его лица, обнажив легкую досаду оттого, что в доме в такой момент объявился посторонний человек.
Дима вдруг вскочил и направился к массивному телевизору, сиротливо стоявшему на столике у стены.
— Ребята! Я совсем забыл, что сегодня хоккей! — Дмитрий болел за «Спартак» и не пропускал ни одной трансляции матчей любимой команды, что по хоккею, что по футболу. — Хорошо, что вовремя вспомнил.
Юноша нажал на большую кнопку в нижнем углу телевизора, подождал, пока появится картинка, потом всмотрелся в нее и начал крутить ручку переключения программ, коих на советском телевидении насчитывалось четыре.
— Кто играет? — ради вежливости поинтересовался Арсений, который ни за кого не болел.
— Наши с ЦСКА. — Димка пристально изучал появившиеся на экране составы команд. — В этом году у нас тренер новый. Борис Майоров. Классный… Лучше стали играть. В прошлом вообще был полный провал. Чуть не вылетели. С ЦСКА, конечно, совладать невозможно. Базовый клуб сборной. Всех лучших Тихонов забирает… Нечестно это! Но сегодня будет битва. Наши просто так не уступят.
— Наши это кто? — осведомился Арсений.
— Спартак, конечно. Не ЦСКА же, — ответил Дмитрий.
Почти сразу после стартового свистка нападающий «Спартака» Сергей Капустин забросил шайбу. Димка возликовал, заорал «гол!» и победно вскинул руки. Потом бормотал себе под нос с видом спортивного эксперта: «Серегу Капустина рано списывать со счетов. Рано. Он еще себя покажет».
Горячность юного болельщика увлекла Арсения и Льва Семеновича. Они постепенно втянулись в просмотр матча. Красно-белые (спартаковцы) и красно-синие (армейцы), называемые в народе «мясом» и «конями», на площадке бились не на шутку. Время от времени после очередной толкотни у бортов возникали стычки, которые разнимали невысокие суетливые судьи в полосатых свитерах и темных шлемах. К концу первого периода армейцы в численном большинстве сравняли счет, что вызвало у Димки приступ гнева: он кулаком грозил арбитру, проклиная его за несправедливое удаление спартаковского защитника Сергея Борисова:
— Вообще ничего не было! Судью на мыло! Засуживают наших.
C кухни между тем раздавались звуки женских голосов, глуховатый звон тарелок и другой утвари. Мужчины к этому не прислушивались. Хоккей поглощал.
Когда под бравурные сообщения комментатора об окончании первого периода игроки с чувством выполненного долга поехали к открывшимся большим воротам в конце площадки, Лев Семенович встал и с таинственным видом подошел к серванту. Аккуратно открыв дверцу, он несколько секунд в задумчивости осматривал что-то, водя головой туда-сюда, затем достал пузатый графинчик, почти до краев наполненный жидкостью нежно-желтого цвета. Гордо и независимо под недоумевающие взгляды внуков он пронес радужно поблескивающий сосуд по комнате и водрузил на стол.
— Это что? — изумился Арсений.
— Лимонная водка моего собственного изготовления. Изготовлена в те времена, когда за это еще не привлекали к ответственности, — усмехнулся Норштейн. — По-моему, повод подходящий, как считаете?
Димку происходящее поразило. За всю его сознательную жизнь при нем на стол никогда не ставили ничего спиртного, даже в Новый год обходились сладкой шипучкой, чокаясь ею со смешно многозначительным видом. Ничего себе! Все в один день. Как все это уложить? Он впервые попробовал спиртное, впервые поцеловал девушку, к ним заявился его старший брат, о встрече с которым он исступленно мечтал, но не разрешал себе это признать; завтра, вероятно, он увидит после целой вечности отца, плюс сейчас на их кухне его любовь, его Аглаюшка Динская, вместе с его матерью собирает что-то к обеду, но очутилась она тут, похоже, совсем не из-за него.
Ему необходимо что-то предпринимать, и это первый случай в его жизни, когда ему не с кем посоветоваться, некому отдать свой страх, не на кого переложить ответственность за свое будущее.
Арсения появление на столе графина с лимонной водкой также не обрадовало. Его отношения со спиртным были далеко не безоблачными…
1966
Сын Лапшина Витенька болел часто, но всегда довольно быстро выздоравливал. Однако в этот раз хворь сразила его, как рыцаря сражает коварное вражеское копье. Мгновенно и наповал. Тяжелая пневмония надолго вырвала его из жизни, приковала к постели, а папа с мамой с каждым днем выглядели все тревожней и печальней. В больницу Витя отказался ехать наотрез, и по утрам и вечерам к ним приходила молчаливая медсестра, седая дама лет пятидесяти, но молодящаяся и пахнущая пудрой. Прежде чем сделать укол, она шлепала Виктора по попке, и после этого шлепка укол вообще не ощущался.
В один день кто-то позвонил в дверь совсем не так, как звонила медсестра. Позвонил вальяжно, ненавязчиво, но в то же время довольно долго удерживая палец на звонке. Витенька, услышав из прихожей голос, обрадовался. Его любимый учитель истории Сергей Семенович Яковлев пришел его проведать.
Как это здорово!
Сергей Семенович благоухал чистыми волосами, воротник его рубашки щегольски лежал поверх отворотов твидового пиджака.
Он вместе с отцом уселся около его кровати и сыпал приободряющими шуточками типа «терпи, казак, атаманом будешь». Потом Лапшин-старший предложил учителю чай, и они сели за стол прямо в той же комнате, где выздоравливал Витенька. Татьяна быстро накрыла на стол, Витя хотел присоединиться, но мать сделала страшные глаза, означающие: вставать тебе еще рано, лежи!
— Вы знаете, Витя очень способный мальчик. У нас так все перепугались, что его так долго нет в школе. Вот командировали меня узнать. Ох! Я же кое-что купил. Там, в прихожей, оставил сумку. Дурная голова.
— Я сейчас принесу. — Лапшин поднялся. Ему очень нравилось слышать все это о сыне.
— Да что вы, я сам!
Оба мужчины почти наперегонки бросились в коридор.
Из принесенного коричневого пакета Яковлев извлек увесистые мандарины, нервно-красные яблоки и сверток конфет «Мишка на Севере».
— Вот, дружок. Поправляйся. Это полезно и вкусно.
Витя вопросительно посмотрел на мать, и она кивнула. Вскоре комнату заполнил запах цитруса.
Сперва Яковлев обстоятельно, во всех подробностях выяснил, что с мальчиком, как его лечат и когда его можно ждать в школе, затем увлекся разговором с Александром Лазаревичем.
Было видно, что собеседники говорят на одном языке и не уступают друг другу в интеллекте. Они упоенно беседовали о перерождении Пастернака в последние годы жизни и о том, принесло ли это ему творческое счастье или же, напротив, это был акт капитуляции перед общей эстетикой доступности. Витенька не все разбирал и иногда задремывал. В музыке Яковлев тоже выглядел не профаном. Он даже был в курсе системы додекафонии, называл имена Шенберга, Берга, Вебера, чем немало поразил своего визави. Он поинтересовался, над чем сейчас работает Лапшин, и тот простодушно начал открывать перед человеком, которого видел впервые в жизни, свои замыслы. Учитель взял с отца своего ученика слово, что тот пригласит его на свой авторский концерт. Лапшин пообещал, хотя заметил, что в ближайшее время ничего подобного не намечается.
Уже в дверях Яковлев улыбнулся и сказал:
— А вам привет от одного поэта.
— От кого же? — удивился Лапшин, не предчувствуя подвоха.
— От Евгения Сенина-Волгина, если вы такого еще помните. Вера Прозорова также просила вам кланяться. Предатель…
Последнее он произнес тихо-тихо. Пожалел все же Витеньку.
Лапшин вернулся в комнату, сел в изголовье сыновней кровати и долго-долго, ничего не говоря, гладил Витю по волосам. Никогда прежде, ни потом Виктор не наблюдал у отца такого отсутствующего взгляда.
