ЖИЗНЬ И ПРОПАГАНДА
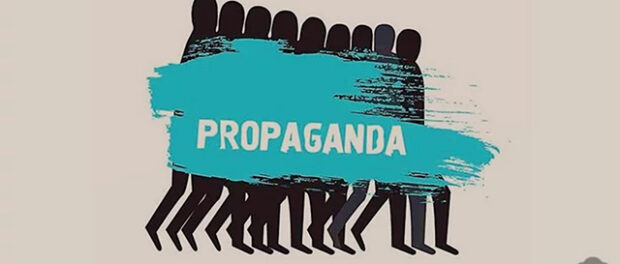 https://pikabu.ru/
https://pikabu.ru/
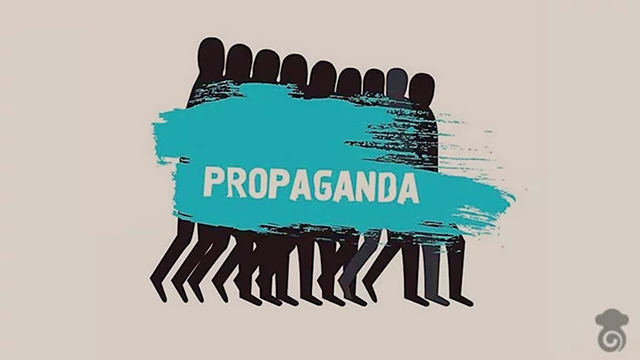
https://pikabu.ru/
Пропаганда ничего не придумывает, она лишь усиливает и так уже имеющиеся в обществе нужные настроения до максимально возможной степени. И за счет такого усиления другие настроения перестают мотивировать, они блокируются массовым сознанием, хотя могут сохраняться в сознании индивидуальном.
Одновременно контрмнения автоматически уходят на периферию массового сознания. Индивидуалам трудно конкурировать с массовым производством мнений. Массовое сознание советского времени получало пропаганду не только в газетном виде, но и в виде искусства.
Вот две известные песни на стихи В. Лебедева-Кумача:
Если завтра война:
Если завтра война, если враг нападет
Если темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь советский народ
За любимую Родину встанет
Священная война:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!
Это были известные и даже знаменитые слова, спасающие сознание при всем их официозе. Песня всегда будет сильнее любого устного мнения. Борьба с песней не имеет смысла, она может идти только на уровне другой же песни, столь же эмоциональной, тиражируемой и поддерживаемой массовым сознанием такой же любовью.
Пропаганда заставляет массовое сознание видеть все происходящее под углом зрения, который она поддерживает и распространяет. Это такой своеобразный прожектор, который высвечивает в окружающей действительности то, что ей нужно. Нас все время окружают чужие информационные потоки, поэтому естественно, что самый сильный из них, а это и будет госпропаганда, буде основным. Пропаганда наиболее сильна тогда, когда ей, а точнее государству удается не допустить того же уровня распространения конкурирующих интерпретаций действительности.
Советский Союз был наиболее силен в борьбе с чужой пропагандой в основном в плане ее чисто физического недопуска в общественное пространство. Сталинское время за не те слова боролось тюремными сроками, даже за анекдоты, которые тогда именовались “антисоветскими”. Они серьезно вычищали информационное пространство, борясь с любой критикой, даже намеком на нее. Сталинское время было временем “врагов народа”, когда лучше было молчать, чем говорить. Условная “чистота” информационного пространства, процессы над “врагами народа” работали на торможение любой критики.
После войны возникла проблема зарубежных радиоголосов. Возле всех больших городов стояли “глушилки”, которые мешали их слушать. Но это все равно было нарушением монополизма пропаганды. А она сильна только тогда, когда с ней никто не конкурирует, когда она является истиной в последней инстанции..
Советская система иногда становилась более мягкой. Это были периоды “оттепели” или “перестройки”. Еще система давала сбой, закрывая глаза на отклонения, когда ей самой требовалась большая свобода для достижения нужных результатов. Это касалось как отдельных конкретных людей, так и некоторых научных целей. Примером первого случая является судьба Ландау, которому ничего не было за собственноручно сделанную антисталинскую листовку, поскольку он нужен был для атомного проекта. Это была более общая практика, когда заключенные работали в так называемых “шарашках”, куда попадали из лагерей научные работники. Правда, иногда людей даже сажали, когда той или иной “шарашке” не хватало конкретных специалистов.
Другим примером является более раскованная атмосфера в академгородках, где ради достижения нужных результатов позволялось некое нарушение нормирования общественной жизни. Например, там бывали фестивали самодеятельной песни, чего нельзя было представить в обычных городах. Точно так распространялась так называемая научная фантастика. То есть кто-то разумный распорядился дать нужную пищу для ума молодежи. Атомный проект делался полностью на украденной информации, тогда запрещали отклоняться на миллиметр от американских чертежей. И только после первых успешных испытаний стало легче. Путин даже в наши дни говорит, что сделать “цап царап” чужого дешевле, чем самому изобретать нечто.
С чем были связаны оттепель и перестройка? Система “задыхалась”, соответственно, останавливалось и любое развитие. “Оттепель” была десятилетием после смерти Сталина. В 1961 г. даже тело Сталина вынесли из Мавзолея и перезахоронили у Кремлёвской стены. Можно себе только представить “шоковость” такого события. В период “оттепели” массовые протестные выступления все равно подавлялись, и раз они возникали, значит, причины никуда не девались.
Кстати, психологические шоки сыграли свою роль в формировании Ю. Андропова, который работал в советском посольстве в Венгрии во времена восстания 1958 г., и А. Яковлева, который, будучи инструктором ЦК, находился в 1962 г при расстреле протестов в Новочеркасске. Правда, увиденное повлияло на них по разному: Андропов стал главой КГБ, а Яковлев начал перестройку.
Оттепель – это время снятия прошлых запретов. Период оттепели сильнее всего отразился на культуре. Люди стали получать типы культурных продуктов, которые несли не столько привычную пропаганду, как какой-то ветер жизни. И это сразу находило отклик в массовом сознании, поскольку “вытравить” человеческое в человеке очень трудно. Оно все равно пробьется, правда, если ему не будут мешать уж очень сильно . И в этой временной точке государство вдруг перестает выполнять функцию “держиморды”. Из сегодняшнего дня это видится так: “Ослабление контроля государства и демократизация способов управления культурой значительно оживили творческие процессы. Сформировался стиль оттепели, представляющий собой оригинальный вариант советского модернизма 1960-х. Во многом он стимулировался научными достижениями в области космоса и атомной энергетики. Космос и атом — как самая большая и самая малая величины — определяли диапазон «вселенского» мышления шестидесятников, устремленных в будущее. Всепроникающее ощущение создававшегося буквально на глазах великого и нового не могло не отразиться на искусстве. Все участники творческого процесса работали над поиском нового языка, способного выразить время. Раньше всего на изменение ситуации отреагировала литература. Большое значение имела реабилитация некоторых репрессированных при Сталине деятелей культуры. Советский читатель и зритель заново открыл для себя многие имена, табуированные в 1930–1940-х годах”.
Одновременно это была эпоха красивых слов, власть легко могла все это закрыть и перекрыть чужие слова своими. Затем она снова поменяла мелодию своей пропаганды, когда увидела, что данный уровень свободы расшатывает ее. Государства любят подчинение, ради этого они лелеют армию, полицию и спецслужбы, которые по сути направлены на то, чтобы создавать слушателей, а не говорящих.
СССР активно развивал литературу и искусство, хотя во многом они были пропагандистскими, но поскольку других не было и не могло быть, то они всегда казались вершиной и искусства, и правды. Пропагандистские фильмы не казались такими чисто пропагандистскими из-за простого отсутствия непропагандистских. У каждого была своя идеологическая задача, соответствующая духу времени.
В любом случае массовое искусство является инструментом для разговора с массовым сознанием. Школа и кино разговаривают сразу со всеми, без исключений, никто и ничто не могут с ними сравниться.
Отсюда истоки приписываемой Ленину фразы – “Важнейшим из искусств для нас является кино”.
В. Нестеров искал истоки этой фразы: “Так и случилось с фразой Ленина “Важнейшим из искусств для нас является кино”. Уже не найти концов, кто набрехал первым, но сначала у фразы появилось псевдо-окончание “Важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк”, потом – псевдо-начало: “Пока народ безграмотен, важнейшим из искусств для нас является кино”. Иногда эти два дополнения сливались в экстазе: “Пока народ безграмотен, важнейшим из искусств для нас является кино и цирк””.
И вывод таков: “Ее автографа не существует, и свою подпись под этими словами вождь мирового пролетариата никогда не ставил. Слова эти нам известны исключительно в пересказе известного большевика и первого наркома просвещения Анатолия Луначарского – якобы Ленин сказал это ему в личной беседе в феврале 1922 года”.
Кино – доступно каждому, поскольку другим массовое искусство просто быть не может. И его не надо конспектировать, как классиков марксизма-ленинизма. Это развлекательный жанр, на который никого не надо загонять ради оценок. Более того, это редкий вариант пропаганды, который готов оплатить из своего кармана сам зритель. То есть это пропаганда, которая еще приносит доход государству.
Кино порождает портреты героев и предателей, которые остаются как модели в памяти массового сознания. Кино может менять представления массового сознания о том или ином периоде истории , создавая новые интерпретации. Массовое сознание потом забудет источник своих знаний, принимая их за истинную правду.
Кино может управлять вниманием массового сознания, Режиссер В. Тодоровский говорит о своем фильме “Оттепель”, раскрывающий прошлый период истории: “«главный мотив с «Оттепелью» состоял в желании пожить немного жизнью родителей и их ровесников. Эмоции стоградусные, отношения искренние… Да, это ностальгия. По ярким страстям и чувствам, которых сегодня, к сожалению, нет”.
Государства защищают свою “паству” от “опасностей”, собственно говоря, как и религия, говоря, что они и есть самые праведные на земле. Медиа, литература, искусство начинают играть одну мелодию, которую все быстро запоминают, и готовы подпевать на всех собраниях.
Это особенно явно выражено, когда происходит масштабное событие. Вожди, например, рождаются незамеченными, но уходят из жизни при всеобщем внимании. Иногда их сила уходит после смерти, иногда – растет.
Вот цитата из Даниила Андреева о смерти Сталина: “Похороны вождя, вернее, перенос его тела в мавзолей, превратились в идиотическое столпотворение. Морок его имени и его дел был так велик, что сотни тысяч людей восприняли его смерть как несчастие. Даже в тюремных камерах некоторые плакали о том, что же теперь будет. Толпы, никогда не удостаивавшиеся чести видеть вождя при его жизни, теперь жаждали улицезреть его хотя бы в гробу. Москва являла собой картину Бедлама, увеличенного до размеров мирового города. Толпы залили весь центр, пытаясь пробиться к Дому Союзов, где был выставлен для обозрения труп тирана и откуда должно было выступить траурное шествие. Прилегающие улицы превратились в Ходынку. Люди гибли, раздавливаемые о стены домов и столбы фонарей, растаптываемые под ногами, срывающиеся с крыш многоэтажных домов, по которым они пробовали миновать клокотавшее внизу человеческое месиво. Казалось, будто он, питавшийся всю жизнь испарениями страданий и крови, даже из‐за гроба тянул к себе в инфракосмос горы жертв”.
Все подобные события всегда являются центральными для пропаганды. Никакие другие интерпретации, кроме официально одобренных, тогда невозможны. Тогда чувства если не каждого, то большинства полностью повторяют официальные. Слишком неординарно само событие.
Мы всегда живем больше в мире чужих эмоций, которые захватывают нас, становясь сильнее наших собственных. Это то, что можно обозначить как “цитатные” эмоции, поскольку мы повторяем их за всеми. Они чаще всего заменяют наши собственные.
С. Чупринин, автор книг об оттепели, говорит в одном из своих интервью: “Отчетливее, как я надеюсь, передана внутренняя шизофреничность или, говоря по-нынешнему, «гибридность» эпохи. Сидельцев из лагерей выпускали, зато верующих опять начали преследовать. Пикассо в Эрмитаже и Пушкинском музее показали, а брюки-дудочки стилягам на танцплощадках распарывали. Населению дали послабления, но колхозники еще долго оставались без паспортов. И при всей антикультовой риторике демонстрацию в Новочеркасске расстреляли, и войска сначала в Венгрию, потом в Чехословакию все-таки ввели…Тем не менее: было ощущение обновления, свежести, какого-то открыточного блеска. И оно очень сейчас поддерживается массовой культурой: «Стиляги», сериал «Оттепель», «Таинственная страсть»”.
И еще: “Оттепель можно понимать как уникальную попытку, не меняя политический строй, преобразовать всю культурную, бытовую, поведенческую реальность. И сделано было, действительно, фантастически много. Во второй половине 1950-х и в 1960-е изменилась мебель, изменились одежды, танцы, песни, изменился стиль общения мужчин и женщин… Весь образ жизни советского человека. И кто этому сопротивлялся? Не только власть, но и население. Которое, естественно, консервативно по своим установкам. Уже привыкли, что надо ходить в немарком… Вообразите, как раздражали какие-то обезьяньи галстуки, коки стиляг. Да их разорвали бы, если бы милиция дала. Этих вот — новомодных, новодельных”.
Сегодня нам легко хвалить или ругать, поскольку мы вне, а тогда, находясь внутри событий, люди подчиняются тому, что можно обозначить как мышление толпы. Быть как все тогда важнее для выживания. Толпа всегда права, и что характерно – при любой власти…
С. Чупринин говорит о странном и непонятном поведении власти, когда вдруг все начинает меняться и вчерашние запреты исчезают: – “Как мне кажется, в российской культуре в XX веке было три таких исторических периода. Один — Серебряный век, второй называется оттепель, третий — «перестройка энд гласность». Периоды колоссального общественного возбуждения и очень бурно идущих процессов, когда каждый новый день приносит новые события. Моя молодость прошла в эпоху, которую называют застоем, и делать «хронику застоя», я думаю, будет гораздо труднее: событий меньше, и какие-то они более блёклые”;
– “если мы говорим о периодизации, то первая оттепель — это 1953–1956 годы. В ноябре мгновенный зажим, всё закручивается. На этой же волне проходит всенародное обсуждение романа Пастернака. Потом потихоньку всё опять расслабляется. Власть успокаивается. У нас никто пока никуда не вышел? Вот и отлично, пусть себе «Современник» играет с аллюзиями, а «Юность» печатает «Звёздный билет». Дальше. 1962 год, Карибский кризис, мир на грани войны. Идут судорожные переговоры между высшими лицами США и СССР. И точно в это же время, в эти дни, когда ракеты в полной боевой готовности, всё такое, политбюро — Президиум ЦК КПСС — обсуждает вопрос о публикации стихотворения Евтушенко «Наследники Сталина». Казалось бы, они должны были зажаться, это же что-то такое «подрывное». А они говорят: «Да ладно, печатайте». И стихотворение печатается в «Правде», в тех же самых номерах, которые рассказывают о «происках империалистической военщины»;
– “Оттепель — это период, когда власть вела себя как шизофреник. Все эти 15 лет. «Да» — «нет», «сеяли» — «вытопчем». Хрущёв даёт санкции на публикацию «Синей тетради» Казакевича , где в первый раз упомянут Зиновьев . Нам сейчас кажется, что это смешно, но тогда это было колоссальным событием. Первый раз выведен в положительном свете человек, так оплёванный, а главное — нереабилитированный. И тут же Хрущёв что-то запрещает. Вот он говорит Эренбургу: «Вы сами будете своим цензором», и Эренбург счастлив, что будет печатать свою книгу «Люди. Годы. Жизнь» — как он хочет. Но выясняется, что эта команда не проходит вниз, и по-прежнему цензура его черкает и чекрыжит. Но люди, общество, вели себя как нормальные люди. И то, что они уже получили, отдавать не хотели. И в материальном отношении, и в плане художественной практики — в театре, в кино, в литературной журналистике, в издательской сфере и так далее. И в плане — это очень важно! — своей личной инициативности”.
Наверное, это во многом связано с тем, что запреты являются чисто властными решениями, население получает их готовыми вне всякого контекста. Вот еще набор скрытых сигналов трансформации системы:
– “«отсталые», как назвал их Полевой, или «фрондирующие», как их стали называть позднее, литераторы пытались этой нивелировке сопротивляться, вынашивать новые планы, и в сборниках документов из архивов ЦК КПСС немало агентурных сообщений и докладных записок, где все тот же недремлющий Поликарпов или председатели КГБ – сначала Шелепин, затем Семичастный – докладывают о тайных встречах и тайных намерениях Паустовского, Алигер, Арбузова, Каверина, других тогдашних либералов. Однако либералы и есть либералы, «герои оговорочки», как язвил еще Ленин, поэтому – меланхолично замечает Шелепин 26 февраля уже 1959 года — из имеющихся материалов видно, что, несмотря на близость между Паустовским, Казакевичем и другими лицами названной группы писателей, спаянностью она не отличается, и даже, наоборот, заметно настороженное отношение этих писателей друг к другу. Вот и не сложилось, как не сложилось тогда и у их убежденных противников”;
– “1 мая «Литературная газета» разместила на первой (!) своей полосе подборку «Весеннее» с лирическими стихотворениями Николая Грибачева, Сергея Смирнова, Маро Маркарян, Льва Ошанина, Вероники Тушновой, Евгения Евтушенко. И, – вспоминает Лев Копелев, — когда начали публиковать в журналах, в газетах стихи о любви, о природе, о смерти, стихи, свободные от идеологии, от морализирования, это уже само по себе воспринималось нами как приметы духовного обновления. Население, и творческая интеллигенция в том числе, ответило на эти сигналы, прежде всего, слухами. А вот, уже 7 мая, заносит в дневник ленинградка Любовь Шапорина: В массе весенние настроения, ждут смягчения режима, улучшения жизни, перестали чувствовать этот тяжелый гнет, висевший над страной. Странное дело, но это так! Кажется, ничего не изменилось, а легче стало дышать. В Москве расшифровывают СССР: смерть Сталина спасет Россию. Где слухи, там и разговоры, там и обсуждение не только руководящих поползновений, но и собственных, как сейчас бы сказали, проектов, в том числе коллективных. И начальство, прежде всего курирующее творческие кадры, забеспокоилось. По сообщению секретарей Правления СП СССР тт. Суркова и Полевого, – докладывают по инстанциям руководители Отдела науки и культуры ЦК, – часть литераторов, критиковавшихся в свое время за серьезные идейные ошибки в творчестве и примыкающих к ним, откровенно высказывает настроения реваншизма и веры в какой-то «идеологический НЭП»”.
Сегодня мы читаем все это как просто слова, но тогда за ними стояли поступки, за не теми поступками наказания. И власть всегда изощренно работает именно над наказаниями, поскольку это ее главный инструментарий. Наград на всех не хватит, зато наказаний у власти всегда с избытком… По этой причине скрытыми кумирами любой власти являются жесткие правители.
Списки жестких правителей в головах у любой власти сидят как идеал возможного: “Иван Грозный и Сталин – идолы тех, кто уверен, что державное величие без несвободы, без тиранства и казней невозможно. Они воображают себя не жертвами, а соработниками наводящих железный порядок, строящих очередную цитадель. Даниил Андреев писал: «Известно, что Сталин был весьма озабочен реабилитацией некоторых страшилищ прошлого, например Ивана Грозного, Малюты Скуратова. И однако, о том же Грозном он пренебрежительно заметил под конец: «Казнит горстку бояр, а потом две недели молится и кается. Хлюпик!» Да, назвать Грозного хлюпиком имел право, пожалуй, только он». Другое дело Святой Владимир, он – сказано в «Розе Мира» – сумел еще при жизни создать противовес «своей лично-державной карме» великим деянием – крещением Руси… Демонические портреты тиранов Даниила Андреева восхищают дантовской мощью, врубелевским колоритом, сюрреалистически изощренной выразительностью. В отличие от Грозного Сталин, изображенный в «Розе Мира», не становится героем поэмы”.
Власть сложна своей опасностью для населения, у которого часто просто не бывает выбора… Из советских министров культуры С. Чупринин хвалит только Фурцеву: “В отличие от ее предшественника дуболома Николая Михайлова и преемника лукавого Павла Демичева в ней действительно было, по словам Владимира Войновича, «что-то человеческое». Хотя, конечно, правила кремлевской игры она знала отлично и многие замечательные проекты по долгу службы погубила, но многим и поспособствовала. В этом, собственно, и есть назначение чиновника при культуре — помогать творцам”.
Вывод из всех этих историй все время один. Жизнь всегда сильнее правил. Власть на стороне правил, а люди – жизни. В одни исторические периоды побеждают одни, в другие – иные.
Георгий ПОЧЕПЦОВ.
Доктор филологических наук, профессор.
Киев, Украина.
Печатается с любезного разрешения автора
