ВРЕМЯ МУЗ
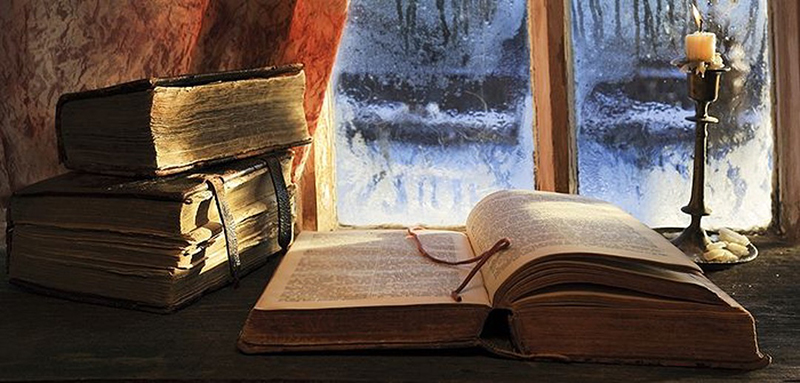
https://media.pravoslavie.ru/
НАТАЛИЯ ЕСИНА: “С миру по нитке”
Наталия Есина родилась в Ташкенте. Там же окончила медицинский институт. Печаталась в американской и российской периодике. Ее стихи звучали на волнах американских русскоязычных радиостанций “Надежда”, “Наш голос”, в передачах НТВ.
Наталия Есина – член Союза писателей г. Москвы.
На ее стихи написано несколько песен, ставшив популярными в Нью Йорке.
В одном из американских издательст издана книга Наталии Есиной “Золотая Луна” . Живет и работает в Нью Йорке, США.
После войны
Когда окончится война,
Расчистка от неё нужна.
Кому-то – мины разряжать,
Кому –воронки закрывать,
Кому –деревья насаждать,
Кому-то –просто выживать.
А кто-то будет доживать
И злую память отгонять.
А кто-то вновь изобретать,
Чтоб в чистом мире жить опять.
Когда окончится война…
Тогда зачем она нужна?
С миру по нитке
Кто создал этот мир?
Конечно же не мы.
Но нам даны пути
В мир что-то принести.И с мира взявши нить,
Себе рубаху сшить
Берётся новый век
Сквозь чистоту и грех.Век ждёт уже давно
Другое полотно
Из счастья, красоты,
Ума и доброты.Но трудно изменить
Для полотна ту нить –
Веревки у судьбы
Суровы и грубы.«Кто создал зтот мир?
Конечно же не мы.» -,
Так скажут после нас.
Но вьётся нить сейчас!
Саксофон
Когда кальяном музыкальным
Саксофонист раскуривает звук,
То атмосферой уникальной
Всё наполняетя вокруг.Изогнут саксофон вопросом,
Как передать вселенскую печаль?
И маслянистый звук набросит
На настроение вуальБельгиец Сакс его придумал
Двадцатипятилетним пареньком,
С необычайным передувом
Кларнет соединил с рожком.Но брать серебряной медали
За саксофон в награду он не стал.
Сказав : «Медаль нужна едва ли,
Для серебра я слишком стар.»Саксофон звучит в тиши.
В нём слоны и камыши,
В нём симфония и вальс,
Томный блюз и гладкий джаз.Совы там и соловьи,
Философия любви.
Словно музыка с небес
В золочёной букве S.
Нетленка
Не противница я вкуса отсутствия,
Не противница песен конвейерных,
Что искусство сейчас «искусственное»,
А «шедеврики» – что-то временные.Даже рада, что их раскручивают,
Много денег на них ухлопывая.
Их как жвачку читают и слушают,
Всё прихлопывая да притопывая.Принимая сначала за ценное
Всё то громкое, ярко блестящее,
Но предчувствуют где-то нетленное,
Что ещё в мире есть настоящее.И когда посреди бутафории
Чистым светом прольётся искусство,
От простого контраста, не более
В них проснутся живые чувства.Человечество к одурачиванию
Хоть порою имеет стремление,
Но другое сильнее подначивает –
То инстинкт самО – сохранения.
Буква Ё
Существует столько слов с буквой Ё!
Так зачем же отменяем мы её?
Только в книжках для детей та нужна,
А для взрослых – в редких случаях важна.Почему же Ё моё – не герой,
Почему играет Е двойную роль?
Правит бал однообразное Е
Вместо буковки двуглазой на строке.Может быть кто-то это отменил,
Чтобы зря не тратить клавишу, чернил?
Только те закорючки не одни,
Есть они у букв и Ц, и Щ, и Й.Что, без них и разобраться нельзя,
Нам зачем над буквой шляпа иль глаза?
И не буду больше я рассуждать
А то скажут, защищаю даже « ять».

https://www.wikiwand.com/
ЮРИЙ ВИТКИН:”На рубеже”
Юрий Виткин родившись в городе на Неве, в ранней юности посещал ЛИТО под руководством прославленных земляков Анатолия Наймана и Виктора Сосноры. Также брал уроки у своего отца, поэта и журналиста Евгения Виткина-Дранкова. Правнук первого кинопромышленника и первого режиссера немого игрового кино царской России, Александра Дранкова.
До 2020 года не удавалось выразить свое творчество на бумаге, к написанию стихов и прозы вернулся во время домашних карантинов в период пандемии. За короткий период созданы десятки работ, многие отмечены международными литературными наградами. Печатается в периодических изданиях. В 2021 г издана первая книга стихов автора “Не звоню среди ночи”.
Проживает в Гамбурге, Германия.
Как сохранить себя
Как сохранить себя, когда
Нет утешения в словах,
И только ненависть, вражда…
И жизни правда неправа?!…Как сохранить себя, когда
Твой друг кричит тебе – ты враг?
Его страданья и нужда
Рвут душу. Плачет друг-добряк.Как сохранить себя, когда
От близких прячешь ты глаза,
А дальше только суета,
Надежд пустые словеса?…Как сохранить себя, когда
Твой друг, детей накрыв собой,
Фантомом Высшего суда
В подвале бредит, сам не свой?!…Как сохранить себя, когда
Национальность – лобный знак,
Шестиконечная звезда,
Клеймо, и всё в тебе не так?! …И как тут сохранить себя?!…
Избавить мир от зла и бед,
Мы сможем лишь, себя виня,
Свое сознанье теребя –
Внутри себя найти ответ!
На рубеже
Оно, друзья, такое счастье,
Когда бичуемый судьбой,
Ты остаёшься неподвластным
Суду мирскому над тобой…Оно, друзья, такое горе
(А всё бы, кажется, пустяк),
Когда в случайном разговоре
Ты узнаёшь, что друг твой враг…И это – радость, в одночасье
Почувствовать в себе внутри
Рубеж, где не пройдут напасти,
Интриги, зависть, грех хандры!И с возрастом, неторопливо
Года подходят к рубежу,
Чтобы сказать: “Господь, спасибо,
Что вижу, слышу и пишу!!!” …
Надёжные рецепты
Где мысли спят и дремлют чувства,
Где под контролем слово “прыть”,
Спасает вечное искусство
И фраза “быть или не быть”.И где так много майонеза
В салате нашей маеты –
Минор очистит до диеза,
Ноктюрн шопеновской мечты!Где в щи накапали Шанели*,
Присыпав правду мишурой –
Укроюсь Гоголя “Шинелью”,
Проникнусь чеховской “Тоской”.Где на загаженных дорожках
Следы завистливых идей –
Излечат мюзикл о кошках
И старый друг Хемингуэй…И пусть смешны мои аспекты,
Но путь спасения один –
Нам память выпишет рецепты
Из слов, из нот и из картин.

https://sites.google.com/
НИКОЛАЙ ЗАМЯТИН: “Моя позиция”
Мой ровесник Вячеслав Бутусов в далёкие 80-е пел: “Гуд бай, Америка…”, я же спустя почти 40 лет хочу сказать: “Хелло, Америка!”
Будучи корреспондентом, объездил пол-Европы, бывал в Азии и Африке, должен был вместе с известным российским депутатом переходить по льдам с Чукотки на Аляску, но судьба сделала тогда очередной кульбит, и вместо Анкориджа оказался в Париже.
А теперь – живу и работаю в Болгарии. Хочу пожелать читателям “Русскоязычной Америки” не только исполнения желаний, но и здоровья – самый актуальный тост на сегодня, мира и согласия: в семье, в стране и на планете.
Искренне Ваш, Николай Замятин, Республика Болгария.
Горох об стену
Как объяснить остолопам упрямым,
Что правда – не то, что вещают с экрана,
А то, чем всех «грузят» – коварная ложь!
Который уж раз объясняю, но всё ж…
Я сам был упрям и таким остаюсь,
За правду упрямым прослыть не боюсь.
Боюсь за других, что упрямы во лжи.
Как можно упрямством во лжи дорожить?
Сыну Коле
…Проехал танк, потом другой по полотну экрана…
Парад сегодня, что в Москве, смотреть мы встали рано.
Потом ракеты повезли под гусеничный лязг,
Но нету гордости в груди, обидно после дрязг.
– Пап, не хочу смотреть войну, мне мультики включи!
Я сына нежно обниму… не закричит в ночи.
Не схватит детский пистолет и не начнёт стрелять.
Не буду убиваться я, не будет плакать мать,
Что наш ребёнок, кровь и плоть, вчера убит в бою,
За Крамоторск или Судан, или за Сирию.
Зажжём свечу, под образа пусть устремляет взгляд.
И детские, пускай, глаза не видят бойни ад.
Не слышат уши никогда призывы воевать,
Поскольку все кругом враги – их надо убивать.
Он знает: прадед принял бой и смертью храбрых пал.
Пусть сын растёт самим собой, чтоб мирным был запал.
И то, что предок по отцу – советский гражданин –
Не разделял свою страну на русских и грузин,
На украинцев, молдован – он землю защищал.
И на украинской земле сражён был наповал.
Пусть сын не будет на войне, ни дня, ни полчаса,
Чтобы всегда в его окне смеялись голоса.
И пусть он знает по весне, что ему Богом дан
Шанс в мирной вырасти стране,
и лучшей из всех стран.
Зло
В прошлом веке был один, а, может, два,
Коих тварью не назвать, созданьем Божьим.
Разрывается от боли голова.
Ведь все думали, что мира нет дороже…
И к чему теперь порожние слова?
Каин тихо курит в стороне.
Скоро скроет придорожная трава
Тех, кого забыли на войне.
Тех, кого отправил на убой,
Лишь была бы для страны отрада.
В двадцать первом тоже есть такой!
Распахнутся ли ему ворота Ада?
Желаю
Я не за белых или красных,
Я лишь за мир на всей Земле.
За то, чтоб жизнь была прекрасной
И в городах, и на селе.
Чтоб летом птицы щебетали,
Зимой «росли» Снеговики,
Весной тюльпаны расцветали…
И сдохли все боевики.
Нервы не выдержали
Я увидел малютку,
Ей двадцать два дня,
Ту, что мать трое суток
Несла из огня,
Что спасала от бомб,
Жизнь успев подарить…
В горле ком, в сердце тромб.
Это как пережить?
Нету слов кроме мата,
Лишь крики и стон:
Как судить супостата,
Что сердца лишён?!
Моя позиция
Моя позиция – мой тяжкий крест.
Несу его по жизни, как на плаху,
Вот разбежаться б и об землю махом!
А оглянусь окрест – нет мест. Нет мест
Ни на Голгофе, ни на пьедестале
Из мрамора или литом из стали,
Нет на трибуне, каждый стал трибун
На улице, на кухне, на экране
(Когда наступит мир, что с ними станет?)
И у трибун – там зрителей навалом,
Но та толпа заботится о малом –
Лишь был бы хлеб и зрелищ колгота.
Да, суета теперь не та, а ченрь всё та…
Вот, раньше были люди – сплошь: титаны!
А этих уговаривать не стану,
Поскольку вместо мозга пустота.
Промыли мозг влиянием тлетворным
И усыпили разумы снотворным
Из обещаний сладостных побед.
Но их как не было и нет,
И будут ли – не ведаю, не знаю,
В ближайшем будущем не обещаю.
Не вижу. Вижу сотни бед.
Как избежать? Ответа нет.
Прошла Россия «точку невозврата»,
Как не вернуть погибшего солдата
Матери… жене… стране…
Такие мысли будоражат по весне.
Пахать и сеять уж пора!
Но прячется в подвалах детвора
От бомб, что сеют смерть,
А не зерно. Кричу: Не сметь!
Ну, почему вам всё равно?!
Кто смог внушить так:
«Брат» – синоним «враг»?
И не стихают «вихри яростных атак»
И марш «Прощание Славянки»…
А люди без оружия на танки
Идут, чтобы безумство усмирить,
Не думая, им жить или не жить.
Как это можно молча пережить?!
Набат
Кто вернёт России сыновей?
Тех, что в страшной битве полегли.
Кто утешит в горе матерей?
Гроб пустой и твёрдый ком земли.
В горле ком, ладони в кулаки
И оскал звериный вместо слёз.
Родину любили мужики,
Но на утро не осталось грёз.
Ты по ком, по ком звенишь, набат?
Так, что из-под ног ушла земля.
Почему мне недругом стал брат?
И не зеленеют тополя…
Клином журавлиным в Севера
Похоронки с юга по весне…
Думаете, всё, уже пора
Тризну справить по родной стране?
На смерть крейсера «Москва»
Нет «Москвы», и флот осиротел.
Есть отчёт, что всех спасли на море,
Только вот никто не видел тел…
И живых – тем более… Такое наше горе!
Моряки! Снимите бескозырки!
Припадите на одно колено и
Крестным знаменем порвите заковырки,
Что боятся объявить на всю вселенную.
Ваши командиры, те, что в белом,
Составляют хитрые реляции,
Нет того, кто правду скажет смело
В информационной изоляции.
Чтоб народ не взялся бы за дело.
Чтоб народ не взялся бы за вилы
И толпой на площадь ошалело
И призвать к ответу не без силы.
Сколько можно попусту куражиться?
Сколько можно врать в глаза, мужчины?
Кто про моряков сказать отважится,
Тех, что с кораблём ушли в пучину.
Помянуть нельзя по долгу-правилу,
Вроде, всех спасла родная нация.
Только прочитаешь по заглавию:
Ложь сквозит и полная абстракция.
Как спаслись? Прямое попадание!
Да к тому ж, в отсеках детонация!
Объявить такое – просто мания.
Только SOS поймала чья-то рация…
Мир давно уж знает все подробности.
Экипаж «ушёл», но «всё по плану».
В обороне, может, есть способности,
Правда, нам они не по карману.
И плавучесть только на бумаге
Флагманского крейсера страны.
Было гладко, да забыли про овраги,
Как в пехоте, вот и мили сочтены.
Охраняла крейсер тот святыня,
Только Бог всё видит даже в шторм.
Кто неправедный сегодня, тот отныне
Составляет в море рыбам корм.
Бог всё видит, вот и шельму метит.
Но мне жаль тех молодых парней.
Их не похоронят, не отметят,
Помянуть – и то пока – не смей.
Моряки! Не лезет водка в глотку?
Бескозырка стала вдруг тесна?
Мы сидим в одной дырявой лодке.
Вот такая «русская весна».

https://langformula.ru/
РЕНЕ МАОРИ: Дилижанс
Рене Маори родилась в Ташкенте, окончила факультет журналистики ТашГУ. Посещала семинар молодых литераторов при СП Узбекистана. Первая книга вышла в издательстве имени “Гафура Гуляма”.
Другие издания:“Запах лепестка белой лилии”. Москва. Издательство “ЭРА”, “Подземелье”. Челябинск. Издательство «Селена-пресс»,“Сборник стихотворений”. Н. Новгород. Издательство «Виконт», “Кто вы, барон Калманович”. Израиль. Издательство «Хранитель идей”, “Поверх всего”. Сборник рассказов. Издательство «Беркхаус». Пятигорск.
Фильм «Алмазная вендетта, Убить Калмановича» (НТВ), частично созданный по книге Р. Маори «Кто вы, барон Калманович» – 2019 год.
Живет и работает в г. Лод, Израиль.
Дилижанс
«O! Возможно ли, чтобы в этом мире было больше
христианских чувств и меньше страстей!»
Королева Виктория
Ранним зимним утром Тэсси Смит по прозвищу Имбирь провожала своего последнего клиента. Она сошла вместе с ним вниз, чтобы запереть двери заведения. Все девушки уже давно отработали и уснули, загасив новомодные стеариновые свечи, совсем недавно введенные в обиход. Ставни везде были плотно прикрыты, чтобы сохранить остатки тепла после бурной ночи, поэтому возвращаться наверх по скрипучей деревянной лестнице пришлось в кромешной тьме. Тэсси устало опиралась на широкие перила, не замечая, что подметает грязные ступени несвежей нижней юбкой с оборванной у пояса тесемкой. Другая ее рука расслабленно придерживала шаль, так и норовящую соскользнуть с плеча. От усталости глаза сами собой закрывались, и Тэсси так и прошла бы по коридору не обратив внимание на тусклую полоску света, пробивающуюся из-под одной из дверей. Если бы вдруг не услышала громкий басовитый смех. Смех раздавался из ближайшей комнаты, где проживала сама хозяйка заведения – мадам Дора, как называли ее все вокруг. В то, что мадам принимает гостей в такую пору, поверить было сложно, ведь еще осенью ей минуло семьдесят лет, а от шалостей она отошла и того раньше, с тех самых пор как сделалась здесь полновластной хозяйкой.
От любопытства Тэсси почувствовала внезапный прилив сил и спать расхотела. Она прильнула к замочной скважине, дающей довольно большой обзор, и увидела прямо на ковре лежащую мадам Дору, судя по почерневшему лицу – мертвую. Еще она сумела рассмотреть мужские ноги в черных штанах и часть фрака с длинными фалдами. Носы лакированных туфель почти касались неподвижного тела. Над всей этой скорбной картиной продолжать звучать глухой и безрадостный смех.
Тэсс взвыла так, что ей бы позавидовал Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. Своим воплем она не только перебудила девушек, но и привлекла внимание констебля, дежурившего на углу улицы.
Мадам Дора была бесповоротно мертва и ни в чьей помощи больше не нуждалась. Обладатель же фрачной пары и лакированных туфель, отправился в полицейский участок в сопровождении двух констеблей.
Инспектор Бишоп, человек апоплексического сложения, обладал заурядной внешностью. И только его уши, огромные оттопыренные уши, поросшие жесткими волосами, казалось, жили собственной жизнью. Когда Бишоп удивлялся и приподнимал брови, то и уши взлетали вверх, когда грустил – опускались и уши, зато, когда он улыбался – оба уха съезжали назад, словно желая встретиться на затылке.
Когда ввели арестованного, он встретил его добродушной фразой:
– А вот и висельник! Как ваше имя, мистер?
– Джон Каннингем, – с готовностью ответил арестант, как видно, совсем не стесняясь своего нынешнего положения. Природа одарила его многим – внимательными серыми глазами, густыми каштановыми волосами, прямым тонким носом и небольшим ртом изящной формы. Он был высок ростом и широк в плечах, словом, являл собой тот образчик молодого человека, который сентиментальные девицы называют одним собирательным эпитетом – «душка».
С этой минуты и мы будем назвать героя по имени, чтобы отличить его от остальных участников событий. Джон Каннингем – прекрасное имя и для лорда, и для преступника. Хотя одно не исключает другое.
– Ну что же, мистер Каннигем, присаживайтесь, – все также приветливо продолжал инспектор Бишоп, указав на колченогий стул с гнутой спинкой. – Рассказывайте.
– О чем?
– О том, как вы убили старую шл… уважаемую женщину и потом глумились над ее телом.
– Я никого не убивал, – твердо ответил Каннигем. – И ни над кем не глумился.
– А свидетели утверждают, что вы смеялись.
– Я рыдал.
– Над трупом жертвы? Вы рыдали над трупом жертвы, разодевшись во фрак? – Бишоп уставился на поникшую ободранную хризантему в петлице обвиняемого, и на лице его появилась тень отвращения. Увядшие цветы всегда напоминали ему о похоронах и покойниках.
Каннингем нерешительно помялся и, наконец, спросил:
– Не стоит ли мне, сэр, рассказать все с самого начала? Во избежание… во избежание, так сказать, разночтений?
– Да, конечно.
– Так вот, третьего дня в полдень я женился. Вот в этой самой одежде прошествовал к алтарю и обвенчался со своей дорогой Милдред. Что и говорить, в последний месяц в ожидании церемонии я почти и не жил. Все, бывало грезил наяву. Представлял себе, как входим мы после венчания в огромную залу полную гостей, и дворецкий объявляет во всеуслышание: «мистер и миссис Джон Каннингем». Представлял и другое…, – он запнулся, и его гладкие, без единой морщинки, щеки зарделись девичьим румянцем.
Бишоп сделал знак скучающему за конторкой секретарю, и тот усердно заскрипел пером, записывая каждое слово.
– Продолжайте, – кивнул инспектор.
– В церкви, когда я увидел ее в серебристом платьице, наглухо застегнутом у ворота, в такой же шляпке с вуалью, то сразу подумал, что мир еще не видел более невинного и неискушенного создания. И ужаснулся, вспомнив свои нечестивые мечты и…
– Желания, – подсказал инспектор. – Вы излишне лиричны. Излагайте, пожалуйста, кратко и без поэзии. Договорились? Все, только самое важное.
– Тогда я пропущу подробности первой брачной ночи. Точнее ее первой половины. Скажу только, что я был предельно нежен и тактичен…
– Довольно. Я вам верю. И он верит, – инспектор кивнул в сторону секретаря. – Или вы хотите, чтобы вместо ваших показаний он написал поэму?
– Нет. Не надо поэму, – Каннингем замотал головой, – я так расскажу. Сжато. Так вот. Когда я опустил усталую голову на подушку, Милдред вдруг сказала нежным голосом: «А теперь, может быть, попробуем «дилижанс»? «Что?» – переспросил я, подумав, что ослышался. «Неужели ты не знаешь об этом новом способе?» – удивилась она, – «все журналы о нем пишут». Но я не знал. Бедная моя девочка в отчаянии заломила руки. У нее такие тонкие ручки, совсем как веточки, и я испугался, что заламывая руки, она может их и переломать, поэтому не стал выяснять, откуда такие познания. Согласитесь, довольно странные, для дамы, бывшей еще совсем недавно девицей.
– Дилижанс? – удивился инспектор Бишоп. – Что-то французское?
– Понятия не имею. Знаю только одно, что из-за этого неизвестного никому способа любовной игры я потерял любимую женщину. Она выгнала меня. Все кричала: «Ты мне больше не муж, раз не знаешь способа «дилижанс!»»
Уши Бишопа медленно поползли вверх, что выражало крайнюю степень удивления:
– Даже так, – пробормотал он. – Значит, это, действительно, что-то стоящее…
– Я надел вот этот самый костюм, в котором несколько часов назад стоял у алтаря. И ушел.
– И вы пошли в заведение мадам Доры?
– Конечно, нет, – возмутился Каннингем. – Как вы только могли такое подумать? Я просто отправился на улицу, чтобы подумать. Проветриться, наконец. Ведь не каждый день людей изгоняют с брачного ложа по такой неясной причине. Когда я вышел, уже светало и в воздухе висел этот туман, отвратительный желтоватый туман, который стал появляться в последнее время. За два шага ничего не было видно. Не знаете, откуда этот туман?
– Промышленность, – протянул Бишоп, с явным наслаждением смакуя каждый звук. – Развиваемся, вот и туман стал желтым. От заводских труб.
– Так я и подумал. – Согласился Каннингем. – Уж очень вонюч. Так вот, я спустился с крыльца и пошел, куда глаза глядят. А точнее – к Темзе. Было холодно, и мне подумалось, что вода, наверное, совсем ледяная. Вернее, это мне подумалось, когда я уже проделал примерно милю. И расхотел топиться.
– Вы решили утопиться?
– А вы бы так не решили в моей ситуации?
– Я бы и в своей так не решил. К тому же вас, все равно, скоро повесят, так что не переживайте.
– За что же?
– За убийство мадам Доры.
– Не убивал я ее. Я вообще впервые в жизни ее увидел. За что убивать? Я лучше дальше расскажу, сами тогда поймете, что неправы. – Джон Каннингем так разнервничался, что даже начал заикаться. – Я… я в этом тумане решил просто свернуть и пойти в другую сторону. Нет, не домой, там меня не ждали. Просто, куда-нибудь. И тут услышал, как рядом остановился кэб. А потом меня кто-то окликнул: «Джон, ты ли это?». Человек, выглянувший из кэба, оказался моим старым товарищем, с которым мы сто лет не виделись. «Эй!», – крикнул он кучеру, – «поворачивай. Только захватим вот этого человека». Я уселся на жесткую скамейку, обитую грубой кожей. И хотя кивал на все его излияния и радостные восклицания, но, кажется, сам не проронил ни слова, даже не спросил, куда он меня везет.
– Как имя этого человека? – спросил Бишоп.
– Да зачем вам? Впрочем, извольте – это был Урия Кавендиш, если это имя, о чем-то вам говорит.
– Ни о чем не говорит, кроме того, что этот человек отвез вас к мадам Доре, а вы ее убили.
– Ни к какой мадам Доре он меня не отвозил. Он привез меня в клуб, и заказал кофе и виски. Я сам в клуб давно не наведывался, и очень удивился, что панели обтянуты новым синим плюшем и биллиардный стол заменен в цвет. Везде происходили какие-то перемены.
– «Где ты развлекался всю ночь?» – Спросил Урия, как только я снял плащ. – «У тебя такой парадный вид, только вот хризантема пообтрепалась. Надо ее выкинуть».
И только тогда я сказал ему, что вчера женился, а то, что не пригласил его на свадьбу, то, на самом деле только потому, что мне сказали, будто он в Европе. Хотя приглашения рассылали всем, и если он хорошо поищет, то, возможно, оно так и лежит вместе со всей непрочитанной почтой. И так далее, и так далее… Но на самом деле я просто не желал видеть его на своей свадьбе по определенной причине, давней и глупой. Он сказал, что рад за меня и надеется, что жена мне досталась хорошая и достойная. Вот тут я и не выдержал, и рассказал все, роняя в кофе горькие слезы. Я говорил, что Милдред меня выгнала, а он сочувственно кивал головой и даже пробормотал, что отчаиваться нечего, бывает и не такое. Но как только я дошел до причины нашей размолвки, он вдруг потемнел лицом и, словно, окаменел.
Потом переспросил: «Ты не знаешь способа «дилижанс»? Это правда?» Я только руками развел. «Ну, если это правда», – продолжал он. – «То ты мне больше не друг. Иди, куда шел»… Он отвернулся и уставился в окно, а я еще немного постоял рядом, надеясь, что он одумается. Но ничего такого не произошло, и я ушел.
– Однако, – оживился инспектор, который все это время слушал откровения арестованного со скучающим видом. – Что же такое. Что это за… метод, способ или как его там… поза? Вы меня просто заинтриговали. И почему незнание этого способа вызывает такую бурную реакцию у ваших знакомых? Я, например, тоже впервые слышу, но меня никто за это с работы не увольняет. А ты, – повернулся он к секретарю, – ты знаешь, что это?
Секретарь перестал скрипеть пером и поднял голову. На его лице, пожелтевшем от вечного стояния за конторкой, не отразилось ничего, кроме скуки.
– Не знаю, – буркнул он. Что, по-видимому, означало – «не знаю и знать не хочу».
– Вот видите, мистер Каннингем, – заметил Бишоп, – он тоже не знает, и никто его тоже не увольняет. И жена пока еще не выгнала. Может быть причина в чем-то другом?
– Уверяю вас – только в этом, – ответил Каннингем.
Уши инспектора заиграли всеми цветами зари. Они выражали то недоверие, то жгучее любопытство и никак не могли остановиться на каком-то одном чувстве.
– И вот тогда вы отправились к мадам Доре?
– Нет. Я отправился… никуда я не отправился, пошел себе по улицам. Даже не помню по каким. А потом очень устал. Скамеек вокруг не было, и пришлось прислониться к такой круглой тумбе, на каких теперь расклеивают рекламу. Мне хотелось немного отдышаться. И услышал резкий женский голос с простоватыми нотками: «Скажите, это королева Виктория?». «Нет, мэм», – ответил другой голос – низкий и тягучий. Только в тот момент я понял, что дошел до Сохо, а путь туда не близкий. Не удивительно, что разболелись ноги, лакированные парадные туфли мало полезны для далеких путешествий. Дама за тумбой настойчиво продолжала спрашивать: «Нет, вы скажите мне, это королева Виктория?». «Да нет же, мэм. Вы ошибаетесь». Этот диалог так меня вдруг увлек, что я осторожно переместился, стараясь производить как можно меньше шума, и увидел расклейщика афиш, увлеченно мазавшего клеем тумбу. Рядом из помятого жестяного ведра торчал рулон туго свернутых свежеотпечатанных листков. Он выхватил один и тут же приклеил поверх другого, где были изображены несколько дам в каком-то разнузданном танце. Не помню, как он называется, но там такая однообразная музыка и танцующие задирают ноги.
– Канкан?
– Да, кажется. Я помню, что-то французское. Ох уж эти французы, вечно они портят жизнь приличным людям. А на его картинке, наоборот, был изображен хорошо одетый молодой человек, обеими руками протягивающий упаковку цветочного мыла кому-то, кого не было видно. И вот на этого самого молодого человека и указывала пальцем толстая простоволосая женщина с резким голосом: «Скажите, это королева Виктория?».
Расклейщик терпеливо отвечал: «нет, мэм», «нет, мэм». В, конце концов, терпение у него лопнуло, как обычно лопается любое, даже самое бесконечное терпение. На очередной вопрос, он вдруг воскликнул: «Да, да, это королева Виктория. Вы правы, мэм». Та, которую он называл «мэм», повела себя странно. Она вздернула подбородок, кинула на него презрительный взгляд и пожала плечами: «Да, что вы такое говорите? Это королева Виктория? Никогда бы не подумала!». И, представляете, она ушла, вот так, с гордо понятой головой, покачивая своими чудовищными бедрами.
– А женщины вообще, странные создания. Будь они хоть дамами из высшего света, хоть торговками – все словно скроены на один манер. – Констатировал Бишоп и печально опустил уши, похожие теперь на привядшие осенние листья. – Капризы, непонятные поступки. А…., – отмахнулся он, будто отгоняя муху. – Даже говорить об этом не стоит. Пустое.
Инспектор изведал на своем пути немало разочарований, женщины бессовестно смеялись над его внешностью. И даже жена, которую он взял в почтенном для невесты возрасте, нисколько его не ценила и при каждом удобном случае называла «ушастым уродом, сгубившим ее молодость».
– Она ушла. Расклейщик развел руками и взглянул на меня, словно приглашая стать свидетелем этой нелепой сцены. Выглядел он почтенно и был похож на актера, из тех, что доживают свою жизнь, работая биллетерами и швейцарами в театре, потому что уже не в состоянии проделывать все эти трюки на сцене. Работал он медленно, но размеренно и методично. Казалось, что кисть сама окунается в мисочку с клеем, а потом сама с тихим шелестом елозит по неровной поверхности тумбы и тащит за собой его старческую руку со вздутыми венами.
Обычно я не обращаюсь к незнакомым людям, особенно к тем, кто ниже меня по статусу.
– То есть, с простолюдинами, – уточнил Бишоп. – И кто же установил такой статус?
– Общество и установило, – ответил Каннигем, – будто бы вам это неизвестно.
– А для меня все преступники равны, будь они хоть лордами. Виселица званий не различает.
– Хорошо. Пусть так. Я принимаю ваш взгляд на жизнь, но позвольте и мне остаться при своем. Как бы ваши новые веяния не пытались уравнять всех – равенства не существует, потому что его не может быть априори. Всегда будет кто-то умнее, красивее, воспитаннее и чище.
– Чище в каком плане? Вымыт лучше или же…
– В моральном, – пояснил Каннингем. – В моральном. Итак, я говорил, что не обращаюсь запросто к людям не своего круга. Но этот расклейщик показался мне, будто бы, знакомым. Знаете, бывает, что видишь человека впервые, а словно давно с ним знаком. Поэтому я нарушил все свои внутренние установки и отреагировал на его жест. Я уже говорил, что он растерянно развел руками и посмотрел на меня, мы оба оказались зрителями в этом спектакле, поэтому я кивнул, соглашаясь с ним. И хотя это ощущение было мимолетным, и он снова принялся за свою работу, я позволил себе задержаться и немного понаблюдать. Вначале старик меня не замечал или делал вид, что не замечает. Или же был настолько тактичен, что ждал, когда я заговорю первым. Но и я молчал. Заклеив последний свободный кусочек поверхности все тем же плакатом с пресловутым молодым человеком, он тщательно вытер кисть тряпицей, протер руки, и я уже подумал, что вот сейчас он уйдет, как любой другой прохожий в этом городе, где принято делать вид, что ты один на пустых улицах, пусть бы эти улицы и ломились от народа. Но он вдруг обратился ко мне: «Вам плохо?» – спросил он. – «Неслучайно вы печальны?». Манера растягивать слова и рифмовать все, что только попадет на язык, выдавала в нем кокни. И, несмотря на печаль, вызвала у меня улыбку. Послушайте моего совета, никогда не улыбайтесь незнакомцам. В ту же секунду старик завладел мной, околдовал и заговорил до колик в животе. Он пересыпал прибаутками, изображал каких-то животных, размахивал руками как ветряная мельница, и заставил-таки меня рассказать ему все, что приключилось. Я описал ему, как мог, весь этот бесконечный и невероятный день, доверил ему то, что мог бы рассказать лишь самому близкому другу, поведал свои сомнения и надежды, словом, выговорился до последней капли. И когда на дне души уже не осталось ничего тайного, умолк, понимая, что поступил глупо. Не к лицу джентльмену расписываться в собственной слабости перед неизвестными людьми. Но, по правде сказать, мое несчастье вдруг показалось мне самому смешным и мелким, и недостойным таких переживаний.
– Так бывает, – согласился Бишоп. – Иногда лучше все рассказать постороннему, не утруждая себя надеждами, что он что-то поймет.
– Я так и сказал ему, что плачу не от обиды. Никто меня не обижал. А плачу над тем, что самая прекрасная для меня женщина в мире оказалась пустой и развратной. Что лучший друг…
– Погодите, как же так? Ведь вы даже не пригласили на свадьбу этого своего «лучшего друга».
– Не сбивайте меня! – патетически воскликнул Каннингем. – Я называю его лучшим, потому что другого у меня никогда не было. Он был единственным, а значит и лучшим, ведь сравнивать-то не с кем.
– С таким уже успехом вы могли бы назвать его и худшим, ведь сравнивать-то не с кем, – съязвил инспектор.
-… что лучший друг оказался глупым последователем нелепой моды и поставил наши отношения ниже мнения света.
Каннингем уставился в пространство и засопел. Бишоп вытащил из-за обшлага мундира клетчатый носовой платок и высморкался, желая скрыть то ли улыбку, то ли слезы сочувствия. Повисла неловкая тишина, нарушаемая лишь скрипом пера и шелестом бумаги.
– Чувства чувствами, – наконец произнес инспектор, – но дело делать надо. Что же случилось потом? Говорите же, а не смотрите на меня глазами истерзанного оленя.
– Старик выслушал меня внимательно. Посочувствовал, а потом сказал, что сам уже стар и почти ничего не помнит по интересующему меня вопросу. То есть, сам помочь не в состоянии. Но, что он знаком с одной женщиной, которая должна знать все об этой стороне жизни. И вот тогда я впервые услышал от него это имя – мадам Дора.
– Слава богу, – воскликнул Бишоп, – дошли, наконец.
– Да, наверное. Он сказал мне, где находится этот дом, как представиться. День уже клонился к закату, теперь темнеет рано. И кое-где уже зажигали фонари.
– Только не начинайте рассказывать, что вы еще побеседовали с фонарщиком.
– Как вы могли такое подумать? Нет, в этот раз я отправился по указанному адресу, никуда не сворачивая. Так и оказался в том самом доме, где меня и нашли ваши люди.
– С этого места подробнее, – приказал инспектор, насторожив уши.
– В полной темноте я нашел нужный переулок. Дом я нашел сразу по сияющему красному фонарю над входом, да из-за закрытых рассохшихся ставень пробивались лучики света. Дверь была не заперта, и в ярко освещенном холле меня сразу окружили несколько девушек – их было около пяти-шести. Я не пересчитывал. Шум и пестрота нарядов, сизая дымка сигарного дыма, пары спиртного – все это создавало необычайную атмосферу карнавала, разнузданного веселья, которое молотом било по моим нервам. К тому же, с самого утра я ничего не ел, и почувствовал головокружение. Тапер колотил по клавишам рояля так, словно хотел их вдавить внутрь инструмента. Разве мог я своим слабым голосом, не приученным к крику, вразумительно объяснить, что мне там понадобилось? Меня уже схватила за руку какая-то бесстыжая девица, одетая в золоченную сорочку и широченные шелковые шаровары, подпоясанные алым кушаком, и потащила к стойке, за которой громоздились разноцветные бутылки и фужеры. Но я вырвал руку и прокричал ей прямо в ухо, что мне требуется мадам Дора. Девица фыркнула, но провела меня по скрипучей лестнице на второй этаж, где располагались спальни и комната хозяйки заведения.
Мадам приняла меня хорошо, хотя и не без удивления. Улыбнулась, сверкнув дорогими фарфоровыми зубами и приказала девице в шароварах принести кофе и яблочный пирог. Не виски и устриц, как можно было бы ожидать в этом вертепе, а вполне приличное английское угощение. Я был голоден и набросился на пирог как измученный голодом нищий, живущий под мостом. Удивительно, но переживания не лишили меня аппетита. Мадам Дора задумчиво наблюдала за мной, ни словом не отвлекая от трапезы. А уж потом, когда я доел все до последней крошки и допил свой кофе, она спросила: «Что же вас привело ко мне, и почему вы в таком ужасном состоянии, хотя не выглядите бедняком?» Возможно, что она сказала это как-то по-другому или я прочел эту мысль в ее глазах, но слова вдруг сами начали срываться с языка, и уже через полчаса она знала все. К тому времени наступила глубокая ночь, но в доме еще никто не спал. Хлопали двери спален, гудели пьяные голоса посетителей и визгливый женский смех. В канделябре горели три свечи, и в их свете я видел, как молодо блестят глаза мадам Доры, словно два блестящих агата, вставленных в оправу в форме старческого лица. Да, она была стара…
– Ближе к делу, – прервал его Бишоп. – Она описала вам этот, как его… способ. Уж она должна была знать.
– И да, и нет, – ответил Каннингем. – Знаете, бывают такие мгновения, которые становятся роковыми из-за недосказанности. Недосказанность часто не позволяет сделать нам правильный выбор, недосказанность, повисшая в пространстве, лишенная возможности когда-либо оформиться в законченную мысль – вот самое страшное, что можно только познать в жизни. Недосказанность убивает или же мучает на протяжении долгих лет.
Бишоп запрядал ушами как боевая лошадь. Он жаждал удовлетворения своего любопытства, что вовсе не пристало государственному лицу, но предчувствовал разочарование.
– И так, – повторил он. – Что же она вам ответила…
– «Ах, этот способ «дилижанс»», – сказала мадам Дора…
– И?
– «Ах, этот способ «дилижанс»», – сказала она и… умерла.
